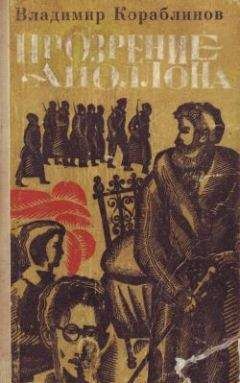Он любил свое дело и справлял его, как ему казалось, на совесть. Чего же еще?
Его давняя мечта – опытный завод. С тысяча девятьсот двенадцатого года хлопотал о его строительстве, писал докладные в министерство, выпрашивал денег. Докладные прятались под сукно, денег не давали А вот пришла новая власть, пришли большевики – вопрос о заводе был решен враз, и началось строительство, которому он отдал все свои силы, все знания, все буйство своей природы.
С точки зрения господ большевиков, ну того же, допустим, Абрамова, не получалось ли так, что вот, дескать, до революций, при старом режиме, профессор Коринский был скован, не раскрывал в полную меру свои способности, а вот стала Советская власть – и он раскрыл их. И этим самым доказал свою любовь к новому строю. Свою приверженность большевизму.
Но ведь это же чепуха! Дало бы ему царское правительство денег – так он и при царе построил бы. Это его дело. Оно вне политики, и нечего ему приписывать подвиги, которые он не совершал.
Его воззрения на свое место в жизни, в науке, в домашнем обиходе ничуть не изменились: в тысяча девятьсот девятнадцатом он мыслит так же, как и в девятьсот, допустим, десятом, и ни к кому не желает подлаживаться в своих мыслях, в своих воззрениях Понятия добра и зла, справедливости и бесчестия вечны, он ничего не желает пересматривать. Он идет своей дорогой. Он – сам по себе.
Однако почему после октябрьских дней все сослуживцы отвернулись от него, стали избегать с ним встреч? Лишь после шумной стычки с чекистским следователем пришли, поздравляли, жали руку, как человеку, политически наконец-то ставшему мыслить с ними заодно. Как блудному сыну – так, что ли?
По-ли-ти-чес-ки!
Но он всегда презирал эту самую, черт бы ее побрал, политику!
Впрочем, восторженные поздравители тут же и шарахнулись прочь, стоило только пройти слуху, что на него «заведено дело» в Чека.
Да он и сам, сказать по правде, был уверен, что ареста ему не миновать.
И вдруг вместо чекистов неожиданно является товарищ Лесных, говорит: подавайте заявление!
Денис Денисыч таинственно предупреждает: не лучше ль на время скрыться в Дремово… Там – наши.
Теперь вот – Абрамов: «на одном полозу»…
Черт знает что!
Профессор ничего не понимал. От непривычки думать о себе устал, запутался и незаметно уснул.
Заняли белые город, и улицы провоняли нафталином. Фраки, смокинги, визитки, мундиры, черные, синие, зеленые, ковры, меха, шляпы, купеческие сюртуки и поддевки – вся эта без малого два года пролежавшая в сундуках рухлядь теперь спешно проветривалась, выколачивалась, разглаживалась, опрыскивалась духами и приготавливалась к банкетам, приемам, парадам, молебствиям и прочим обязательным праздничным церемониям, предполагавшим отметить так долго ожидавшееся возвращение к старым порядкам и полное поражение окаянной Совдепии.
К вечеру первого же дня владычества белых генералов на старой торговой площади, на так называемых Красных рядах, была воздвигнута виселица – голенастое зловещее сооружение, не виданное городом со времен царя Алексея Михайловича.
В церквах, словно на пасху, звонили во все колокола; на открытой эстраде городского сада серебряные трубы военного оркестра наяривали бравурный марш «Под двуглавым орлом»; по вечерам с треском и шипением в крутогорских небесах расцветали причудливые розы бенгальских огней. С увешанного коврами балкона арутюновского дворца довольно еще молодой, с длинным, испорченным оспой лицом генерал произносил по бумажке речь. Барыни в шляпках, похожих на цветочные клумбы, пищали «ура», гимназисты кидали вверх форменные фуражки, почтенные господа в вицмундирах и сюртуках потрясали тростями и зонтиками. Верноподданнейший Крутогорск ликовал, праздновал победу, шумел. Одни каменные львы, все еще полосатые, не успевшие вылинять за лето, обиженно молчали.
Город весело гудел, в городе начиналась новая жизнь.
Но что же, собственно, было нового? Да ничего. Наоборот, из всех щелей настырно полезло все слишком привычное, старое, дореволюционное: красно-сине-белые флаги, буква «ять», погоны, аксельбанты, орленые пуговицы чиновничьих мундиров, дамские лорнетки, черт знает откуда взявшиеся полицейские на углах и почти уже позабытое словечко «господа».
В гостинице «Бостон», где обосновалась штаб-квартира его превосходительства, с утра до вечера толклись те, кому предстояло восстанавливать исчезнувший при большевиках старый порядок: денежные тузы, коммерсанты, предприниматели всех рангов и мастей, чиновники, отставленные от своих постов «хамами-большевиками», высшее духовенство и всякий пестрый народишко, норовящий беспроигрышно сыграть «на моменте»…
Все теснились в кричаще-шикарной приемной его превосходительства, все горели желанием сообщить его превосходительству нечто сугубо важное и всемерно полезное высокому делу «спасения обожаемого отечества»…
Знакомые лица мелькали здесь: папенька институтского коменданта колбасник Полуехтов, бог весть откуда вынырнувший табачный фабрикант Филин, рыботорговец Бутусов, профессор Гракх Иван Карлыч, в парадном вицмундире ведомства народного просвещения, при шпаге… Даже толстая мохнатая морда недавно выпущенного из Чека авантюриста-сахаринщика Дидяева – и та промелькнула.
Его превосходительство играл в демократию, принимал всех, но ни с кем особенно не задерживался. Простреливал входящего холодным волчьим взглядом, чуть наклонял длинную набриллиантиненную голову: «Э-э… чем могу-с?» – выслушивал, нетерпеливо дрыгая, выстукивая ногою дробь, и, бросив два-три слова или отдав адъютанту приказание, снова наклонял голову, давая понять, что аудиенция закончена. Так, фабриканту Филину обещал поддержку в восстановлении его бесценной картинной галереи, но поездку в имение «Камлык» посоветовал отложить…
– Пока не стабилизируются новые порядки, – генерал наклонил зеркально блеснувшую голову. – Честь имею, господин Филин…
Ивану Карлычу, явившемуся как депутату от группы профессорско-преподавательского состава института, сказал:
– Весьма, весьма… – и что-то насчет единения всех научных сил во имя крестового похода за возрождение матушки России…
Папенька же Полуехтов как человек дела представил его превосходительству списочек лиц особо неблагонадежных «по их крайней приверженности к большевицкой партии».
Среди двух десятков фамилий значились железнодорожный милиционер Капустин, беспощадно гонявший Полуехтова-старшего с его подозрительными пирожками, и профессор Коринский, человек, будто бы находящийся в близких сношениях с большевистскими заправилами…
Генерал удивленно поднял брови:
– Ах, вот даже как! – и передал списочек адъютанту. – Проследите, голубчик…
Итак, малиновые трезвоны. Парады. Молебствия. Синее погожее небо. Золотые переливы хоругвей. Бум! Бум! – духовая музыка.
– Ур-р-р-а-а!
– Уррра-а благодетелям! – крепко подвыпившие верноподданные.
– Мно-о-га-я ле-е-е-та!.. – луженые глотки дьяконов.
Трехцветные флаги под веселым ветерком. Ковры на балконах.
– У-р-р-р-а-а-а!..
Тосты. Поцелуи.
И залпы летящих в потолок пробок из покрытых паутиной и плесенью бутылок «Мадам Клико» и отечественного «Цимлянского».
Весело, празднично.
Еще бы! В газетке «Телеграф» сообщают:
ПОБЕДОНОСНЫЕ ВОЙСКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ!
БЕГСТВО МОСКОВСКИХ КОМИССАРОВ!
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД СОЮЗНИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
УЛИЧНЫЕ БОИ В ПЕТРОГРАДЕ!
НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ТАМБОВ!
Но, словно в насмешку над ярким и шумный праздником, на колонне у входа в зал благородного Дворянского собрания – желтоватый листок:
«КРУТОГОРСКАЯ КОММУНА»
Орган Крутогорского губкома РКП (б)
С КРАСНЫХ ФРОНТОВ
Из оперативной сводки
от 13 сентября:
Партизаны освободили в глубоком тылу колчаковцев город Минусинск.
*
Части Советской 1-й армии Туркестанского фронта соединились в районе станции Мугоджарская с туркестанскими войсками.
*
БЕЛЫЕ БАНДЫ, УМЕРЬТЕ ПРЫТЬ!
БИЛИ ВАС. БЬЕМ И БУДЕМ БИТЬ!
Небольшой листок, чуть больше тетрадочного. Шестой день хозяйничали в городе белые, и шесть раз появлялись на стенах домов, на заборах эти желтоватые, написанные от руки листочки. Крохотные, как объявления «сдается квартира». С фиолетовыми кляксами расплывающихся чернил. С уголками, грязными от хлебного мякиша.
Грозным оружием желтеньких листков была правда. Каких-нибудь десять – двенадцать строк из очередной оперативной сводки, боевой лозунг – всегда в стихах, – и летели к чертям и «бегство комиссаров», и победные реляции «нашей славной, доблестной»…
Страшны казались скупые, суховатые строчки сообщений Российского Телеграфного Агентства, но еще страшней было то, что в покоренном городе, где внешне восстановлено все, что представляло собой Россию дореволюционную, царскую, продолжает жить и ежедневно заявляет о себе непокоренная идея коммунизма.