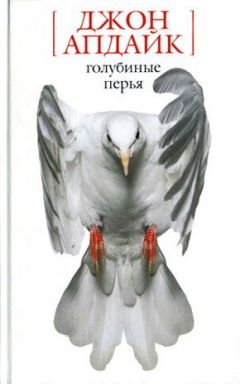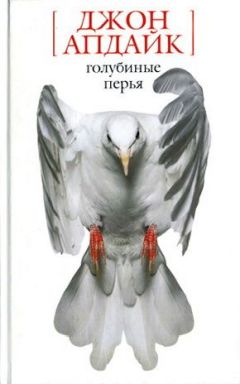подлетел к ней, выстрелил — птица не успела пройти те десять дюймов каменной кладки, что отделяли ее от вольного мира. Голубь лежал в каменном туннеле, он не мог упасть ни внутрь, ни наружу, но был еще жив и поднимал крыло, застилая свет. Крыло опускалось, он снова поднимал его рывком, раскрывая веер перьев. Теперь никто больше не мог вылететь через этот проем. Дэвид кинулся в другой конец сарая, где была точно такая же лестница, и установил винтовку тоже на первой ступеньке. К этой амбразуре подлетели три птицы; одну он убил, две вылетели. Остальные снова расселись среди балок.
За балками, поддерживающими двускатную крышу, было пустое треугольное пространство, здесь-то они гнездились и прятались. Но то ли пространство было слишком тесным, то ли птицы не в меру любопытны, только Дэвид, глаза которого привыкли к пыльному сумраку, теперь различал, как маленькие серые комочки то выглянут, то спрячутся. Голуби курлыкали пронзительно, от их тревожно раскатывающихся тремоло, казалось, дрожит весь воздух в сарае. Дэвид заметил маленькое темное пятно головки, которая выглядывала особенно настойчиво; определил цель и навел туда дуло ружья, и, когда головка появилась снова, его уже изготовившийся палец спустил курок. С балки соскользнул ком перьев и шмякнулся с высоты на парусиновый чехол поверх чего-то из олинджерской мебели, а там, откуда выглядывала головка, в дранках образовалась новая звезда.
Стоя посреди сарая, уже вполне мастер своего дела, не нуждающийся ни в каких опорах для винтовки, он стал стрелять с плеча и убил еще двух птиц. Он чувствовал себя благородным мстителем. Наглые твари, смеют высовывать свои глупые головы из сумрачной, ветхой бесконечности под высокой крышей сарая, оскверняют его звездную тишину своим грязным трусливым существованием, так что ж, он отнимет у них жизнь, надежно спрячет в этой тишине. Чем он не творец? Эти слабые мерцанья и трепетанья, которые он так зорко подмечал в темных провалах между балками и в которые так метко попадал, — ведь каждое он превращал в целую птицу. Крошечный глазок, быстрый любопытный взгляд, блестка жизни, но едва он попадал в голубя пулей, тот превращался в труп врага, как превращается в цветок бутон, и тяжело падал последним паденьем.
Его мучило, как неудачно получилось со вторым голубем, в которого он стрелял, птица все еще поднимала время от времени крыло, лежа на камнях круглого проема. Он перезарядил «ремингтон» и, прижимая к себе винтовку, стал подниматься по лестнице. Мушка на конце дула царапнула его ухо, и он вдруг пронзительно ярко, будто на цветном слайде, увидел, как стреляет в себя и как его находят распростертым на полу сарая среди его жертв. Он обхватил рукой верхнюю ступеньку — гнилую шаткую перекладину, прибитую к столбам, — и выстрелил в голубя с тупого угла. Крыло сложилось, но удар, вопреки надежде, не вытолкнул птицу из амбразуры. Он выстрелил еще раз и еще, но маленькое тельце, такое легкое, легче воздуха, когда птица живая, все так же тяжело лежало в своей высокой гробнице. С того места, где Дэвид стоял, ему были видны сквозь проем зеленые деревья и коричневый угол дома. Весь облепленный паутиной, которая скопилась между ступеньками, он всадил в упрямую тень полную обойму — восемь пуль, и все впустую. Он спустился вниз, и его поразила тишина в сарае. Наверное, остальные голуби вылетели через другой проем. Ну и прекрасно, с него хватит.
Он вышел со своим «ремингтоном» на свет. Навстречу шла мать, и он не мог не усмехнуться, когда она отпрянула при виде дымящегося ружья; он играючи нес его в одной руке, с небрежной ловкостью опытного деревенского охотника.
— Дома все просто оглохли, — сказала она. — Что за пальбу ты тут устроил?
— Один голубь умер в этом круглом проеме, и я хотел выбить его наружу.
— Рыжик спрятался в углу за пианино и не вылезает. Я уж отступилась.
— По-твоему, это я виноват? Вот уж кто не хотел убивать этих несчастных тварей.
— Перестань ёрничать. Совсем как твой отец. Сколько ты подстрелил?
— Шесть.
Она вошла в сарай, он за ней. Она вслушалась в тишину. Волосы у нее были растрепаны, — наверное, из-за того, что возилась с Рыжиком.
— Теперь они вряд ли вернутся, — устало сказала она. — И зачем я поддалась на мамины уговоры, сама не понимаю. Они так мирно ворковали.
Она принялась собирать мертвых голубей. Дэвиду не хотелось к ним притрагиваться, и все же он подошел к сеновалу и поднял за еще теплые жесткие коралловые лапки первую убитую им птицу. Ее крылья распахнулись, и он растерялся: голубь словно был перевязан нитками и вдруг эти нитки разрезали. Он был совсем легкий. Потом Дэвид поднял того, что лежал у другой стены; мать подобрала трех, что упали в середине, и он пошел за ней через дорогу к южному склону небольшого пригорка, у подножья которого виднелся фундамент сарая, где когда-то сушили табак. Пригорок был слишком крутой, на нем ни сеять, ни косить нельзя, сейчас он буйно зарос травой и земляникой. Мать положила свою ношу на землю и сказала:
— Надо их похоронить, а то пес обезумеет.
Он опустил своих двух птиц на уже лежащих трех; тельца в гладком, лоснящемся оперении легко скользнули друг на друга.
— Принести тебе лопату? — спросил он.
— Принеси лопату себе, хоронить будешь ты. Ведь ты их убил. И выкопай яму поглубже, чтобы пес не добрался.
Он пошел за лопатой, а она двинулась к дому. И, против обыкновения, ни разу не посмотрела вокруг — ни на фруктовый сад, что был справа, ни на луг, лежащий слева, ее слегка склоненная голова будто окаменела, казалось, мать вслушивается в землю.
Дэвид выкопал яму в том месте, где не росла земляника, и стал рассматривать голубей. Он никогда раньше не видел птицу так близко. Перья оказались еще бóльшим чудом, чем собачья шерсть, потому что каждый волосок в пере был именно такой длины, какой требовала его форма, а перья точно такой формы и длины, какой требовал пернатый покров, идеально облегающий тело птицы. Его заворожили накаты геометрических узоров, перья то расширялись, росли и крепли, чтобы поднять птицу в воздух, то суживались, уменьшались и превращались в пух, который сохраняет тепло вокруг немой плоти. И по всей поверхности этой совершенной и все же словно бы возникшей без чьего-либо участия механики оперения играл беспечный узор окраски, на всех птицах разный, нанесенный в строгом вдохновении, с радостью, которая была ровно разлита в воздухе над ним и за его спиной. А ведь