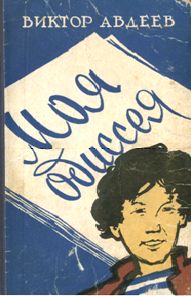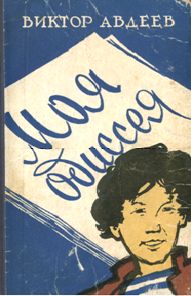Теперь вы поймете, отчего я вчера была так не находчива, отчего я так боялась вашего осуждения; но, высказав вам все, я спокойна. Мне не страшны будут выходки Тамарина, и я найду на них ответ, когда вы узнаете наши прежние отношения, в которых он думал найти право надо мною. Я следую вашему правилу — избегать ложных положений, и все вам высказываю. Вас, которого я так уважаю, избираю моим судьей: неужели вы обвините меня?
В.»
Иванов прочитал письмо, повертел его в руках, опять местами перечитал и положил в портфель. По выражению лица его видно было, что он остался доволен его содержанием, но что вместе с тем оно заключало в себе что-то его смущающее.
Долго Иванов ходил скорыми шагами по комнате; он не слыхал, как слуга два раза докладывал ему, что стынет горячее на столе, — наконец пообедал рассеянно, закурил сигару и опять начал ходить. Немного погодя Иванов как будто на что-то решился, спросил шляпу и уехал.
Был вечер. Варенька сидела одна в известной нам комнате, за работой, как и в первый раз, когда мы встретились с ней в этом рассказе. Только она не была так покойна, как прежде. Лицо ее было бледно, и на нем, как от легкого облака в ясный день, лежал какой-то оттенок, который придает невольная дума. Зато при каждом скрипе двери, когда Варенька быстро поворачивала голову, яркий румянец мгновенно разливался на щеках ее и потом медленно, медленно с них сбегал. Она продолжала шить бегло, скоро, как будто этой спешностью работы торопила время. Видно было, что какая то неспокойная мысль управляла ее движениями.
С полчаса или час длилось это ожидание; наконец дверь еще раз стукнула; румянец опять вспыхнул на щеках Вареньки, но в этот раз послышалась знакомая походка, и румянец исчез мгновенно: бледная, но с веселой улыбкой встретила Варенька вошедшего Иванова. Они, как и всегда, пожали друг другу руку; но крепче обыкновенного было их рукопожатие.
— Я хотел бы сердиться на вас, — сказал Иванов. — К чему это объяснение, к чему эта исповедь прошлого? Разве недостаточно было бы одного слова вашего, чтобы разъяснить мои сомнения, если бы я их имел? Разве, наконец, я сомневался когда-нибудь в вас? Но, вспомнив вашу доверенность, мне остается только искренне, искренне благодарить за нее.
Варенька подняла на Иванова темно-голубые глаза, зарумянилась и тихо спросила:
— Так вы не обвиняете меня?
— Боже мой! Кто ж не увлекался из нас ложным эффектом, загадочностью… кто не ошибался? — отвечал Иванов.
— Да, я тогда была молода, — вздохнув, сказала Варенька.
— Послушайте: зачем тревожить это прошлое! Оно прошло и слава Богу! Вы из него вынесли спасительный урок. Оставьте его. Стоят ли несколько вздорных слов, сказанных Тамариным, чтобы обращать на них такое внимание. Если бы вы встретили их более хладнокровно, вы бы, конечно, не допустили его и, надеюсь, впредь не допустите повторить что-нибудь подобное.
— О, нет! Теперь, когда вы все знаете, когда я уверена, что вы не обвиняете меня, я спокойна, и меня нисколько не тревожит встреча с Тамариным: но вчера, если бы вы знали, как мне было совестно перед вами. Я не спала целую ночь. Меня мучило сомнение, что вы обо мне подумаете, что вы подумаете об этом прошлом, на которое так низко намекал Тамарин. Я не могла себе простить, что ничего прежде не сказала вам, и успокоилась только тогда, когда все вам написала.
— Я уже вас благодарил за доверенность, — сказал Иванов, — и, поверьте, высоко ценю ее. Но к чему вам подчинять себя чужому мнению? Отчего это недоверие к собственному суду? Разве нам недостаточно его?
— Что ж делать! Мы, женщины, уж так созданы: нам нужна непременно опора или руководитель. Мужчина может нас увлечь в гибель, он же должен поддерживать нас и на прямом пути. Я не думаю, чтобы женщина по собственному произволу могла пасть или возвыситься. Разве вы недовольны, что я обратилась к вам?
Варенька посмотрела на Иванова так мило, так мило, что, верно, каждый из вас, читатель, захотел бы быть на его месте.
Иванов вместо ответа улыбнулся и немного наклонился.
— Да! — продолжала Варенька. — Я вам должна высказаться… Я недаром обратилась к вам. Я вам многим, многим обязана, хотя вы, быть может, и не замечаете этого. Общество честного, бесхитростного и благородного человека невидимо целебно. Наши тихие, откровенные беседы много изменили меня. Я чувствую, я как-то теплее, прямее и проще стала смотреть на вещи, у меня есть сознание, что я лучше стала с тех пор, как узнала вас: как же мне не уважать, как же мне… — Варенька немного остановилась. — Как же мне не чувствовать к вам искренней доверенности и дружбы!
Варенька говорила это с какой-то особенной добротой и задушевностью. Слушая ее, казалось, что она действительно должна была все это высказать. Она, кажется, была бы не права, ей было бы совестно перед собой не сказать Иванову того, что она чувствовала. И на ее прямодушном, откровенном лице, немного зарумянившемся и как-то особенно в эту минуту тихо прекрасном и одушевленном, можно было читать искренность каждого слова, заметить, как оно было прочувствовано в душе и как верно его передали.
Иванов смотрел на Вареньку и с удовольствием, и с грустью. И на его умном и довольно резко очертанием лице показалось мягкое, несвойственное ему выражение, как будто какое-то тоскливое чувство невольно пробилось наружу и смутило эти резкие черты.
— Вы слишком многое мне приписываете, — отвечал он. — Не знаю, кто из нас более выиграл от взаимного сближения; и я, в свою очередь, мог бы сказать, чем я вам обязан. Но мне особенно грустно было вас слушать именно теперь. Чем короче и задушевнее будет наше сближение, чем полнее мы поймем друг друга, тем больше будет лишение и тем труднее разлука: мне надобно ехать.
— Куда это? — побледнев, с недоверием, спросила Варенька.
— Мне дают поручение в ***.
— И надолго?
— Не знаю наверное, но думаю, что очень надолго. Я нарочно зашел к вам, чтобы сообщить об этом. В 10 часов меня ждут, чтобы окончательно переговорить о деле. — Иванов посмотрев на часы и, вставая, сказал: — Я почти опоздал.
Он подал и пожал Вареньке руку; но она смотрела на него все как будто не веря.
Иванов пошел и был уже почти у дверей, когда Варенька остановила его.
— Послушайте! — сказала она и остановилась в нерешимости.
Иванов ждал.
Варенька хотела, кажется, сказать: «Нельзя ли вам не ехать?» — но только спросила его: «Так вы поедете?..» Но этот вопрос был так сделан, что он был красноречивее всякой просьбы.
Иванов немного смутился: какая-то борьба, видимо, овладела им.
Было одно мгновение, когда Иванов, казалось, готов был отказаться и от свидания, и от дела и воротиться к Вареньке; он стоял в какой-то непонятной нерешимости и рассеянно ответил:
— Не знаю, можно ли мне остаться.
У Вареньки был еще, казалось, какой-то готовый вопрос; но прежде, нежели она его сказала, Иванов уже вышел.
Варенька осталась одна, бледная, задумчивая. Долго, долго сидела она, не выпуская из рук работы и между тем не работая. В голове у нее толпились смешанные, неожиданные мысли. То она думала, как сделать, чтобы Иванов не ехал, то как ей будет скучно и пусто, когда он уедет. Она остановилась на первой мысли и делала разные предположения, придумывала разные способы, чтобы удержать Иванова. Но видно, ничего доброго не придумала и не предвидела ее хорошенькая и грустно склоненная головка, потому что она все неподвижно-задумчиво сидела над неконченой работой, и какие то темные думы проходили и отражались на ее бледном челе. В доме была тишина мертвая: все, что было в нем живого, давно уже спало… только в передней и в девичьей чуть светились нагорелые свечи, и камердинер Володи и горничная Вареньки крепко дремали. Наконец когда сани Володи, возвращающегося из клуба, подъехали к дому и зазвенел колокольчик у двери, Варенька очнулась будто из забытья н, все такая же грустная и задумчивая, взяла свечи и вышла в спальню.
Чтобы объяснить внезапное решение Иванова, мы должны отступить на несколько часов назад.
Получив письмо Вареньки, Иванов над ним задумался. Привыкнув прямо смотреть на вещи, не обманывать себя ложными истолкованиями, разбирать часто замаскированное начало и по возможности угадывать его исход, он увидел из письма Вареньки, что эта тихая привязанность, которая начинается обыкновенно привычкой, сходством взгляда и вкуса, крепчает и переходит во что-то скрывающееся под фирмой дружбы; что эта привязанность, высказанная теперь Варенькой, благодаря потрясению, которое невольно дал ей Тамарин, начинает принимать другой оборот и перерождаться в более определенное чувство. Строго по этому случаю взглянул Иванов и на себя и не мог не признаться, что он сам находит большое удовольствие в обществе Вареньки… Откровенность Вареньки, доверенность и дружба, ею высказанные, сладко затронули в нем самые звучные струны, — и знал он, что едва ли устоит против заманчивой склонности, если она сильнее и определеннее разовьется. Все это предвидел и чувствовал Иванов, и неизбежный вопрос: «Что из этого выйдет?» — невольно представился ему не как расчет холодного эгоизма, который взвешивает проигрыш с выигрышем, но как мысль пловца, которого незаметно прибивает волна в заманчивую пристань и который видит, что есть еще время, хотя с трудом, воротиться в неспокойную, но нужную ему быстрину.