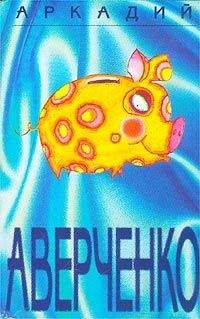— Как же ты ее откроешь?
— Ну, как обыкновенно все открывают!
— Открывают так: едут и едут все время, пока не наткнутся на землю. Потом смотрят в карту: есть такая страна на карте? Нет. Ну, значит, мы ее и открыли.
— Вот и мы так откроем.
— Да ведь мы не едем.
— Фу, какой ты нудный! Возьмем карту и посмотрим: что еще не открыто.
— Да ведь что на карте, то уже открыто, а что не открыто — того не может быть на карте.
— Ну… остров-то может быть среди океана? Неоткрытый. Может?
— Это другое дело.
Деловито разворачивается атлас Ильина. Оба, сгорая от того острого чувства, которое ведомо только исследователям и авантюристам, наклоняются над картой.
— Вот это что? Тихий океан. Вот смотри, сколько тут пустого моря… Не может быть, чтобы тут не было острова. Дай-ка карандаш… Я сейчас нарисую.
На карте появляются прихотливо изрезанные очертания острова. Посредине пишется: «Остров Св. Марии»… И после некоторого колебания добавляется: «Скобцовой».
— Да разве ты святая?
— Ничего. Это так на островах всегда пишется.
— А вот тут — смотри — сколько пустого моря. Тут целый архипелаг должен быть. Дай-ка карандаш. Я сделаю.
Широкая мужская натура перещеголяла робкую девичью. Целый архипелаг пестрил на беспредельном морском просторе.
Написано и утверждено: «Скобцовские острова».
Остров Св. Марии перед ними такой жалкий, будничный, что ревнивое сердце не выдерживает:
— Боря!
— Ну?
— Я новый ликер изобрела — знаешь?
— Из чего?
— Пойди отлей из буфета стаканчик водки и сахара принеси. Я сделаю.
Новая забота поглощает отважных исследователей.
В принесенный стакан водки насыпается сахар. Потом Маруся, после краткой, но тяжелой борьбы, вынимает из-под подушки апельсин и выжимает его туда же. К апельсинному соку присоединяются лепестки сухой розы из книжки и кусок ромовой карамели.
Обсасывая выжатую апельсинную корку, Боря задумчиво глядит на помутневший стакан и говорит:
— Положи кусочек кармину для цвета. Красный ликер будет.
— Я и сама думала, — ревниво возразила Маруся, не желая уступать чести своего изобретения.
Мутно-красная смесь пахнет ромом, апельсином, розой и вообще черт знает чем.
— А ну, дай попробовать… Ой, вкусно!
— Постой… Оставь и мне. Я сделаю таких сто бутылок, наклею ярлычок «Ликер Чудо Роз — фабрики Марии Скобцовой» и буду продавать. Вот сейчас и ярлык сделаю…
— А знаешь, так можно очутиться знаменитой. Дай еще глоточек.
— Ну, это свинство! Ты почему языком карамельку вылавливаешь?! Пусть тает.
В комнату вошли отец и мать Скобцовы… Усталая печка уже перестала трещать, прикрылась теплым пеплом, как одеялом, и задремала. Честные, добродушные часы, наоборот, бессонно и бодро несли свой однотонный вековечный труд. На сложенных руках мирно спали за столом две отяжелевшие головки: коротко остриженная темная и кудрявая, сверкающая жидким золотом.
— Неужели заснули? — сказал отец, наклонившись над столом.
— Смотри! — испуганно воскликнула мать. — Они какую-то дрянь пили.
Отец понюхал стакан, повертел в руках основы новой религии, карту с островами, ярлык — и тихо засмеялся…
— Обрати внимание, Софья! В то время как мы взрослые, тяжелые, скучные люди сыграли только четыре никому не нужных роббера, будущее поколение успело открыть новые земли, сочинить новую религию и изобрести райский нектар…
Он призадумался, глядя на «Скобцовские острова», провел рукой по начавшему лысеть темени и почему-то вздохнул.
Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть. Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни — и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.
Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники — люди с более хрупкими организмами — заболевают прочно и навсегда.
Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.
* * *
Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.
Встречаю в ресторане одну знакомую даму — очень недурную драматическую артистку.
— Что это, — спрашиваю, — у вас такое лицо расстроенное?
— Ах, не поверите! — уныло вздохнула она. — Никак второго любовника не могу найти…
«Мессалина!» — подумал я с отвращением. Вслух резко спросил:
— А разве вам одного мало?
— Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте… может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?
— Мое сердце занято! — угрюмо пробормотал я.
— При чем тут ваше сердце?
— При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность…
Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.
— Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством… над девушкой, которой вы даже не знаете, то… то…
— Да позвольте, — сказала она, утирая выступившие слезы. — Вы когда-нибудь играли на сцене?
Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:
— Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена — моя жизнь».
— Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?
— Еще бы! Это такие… которые… Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите…
Она встала с видом разгневанной королевы:
— Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!..
Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и четыре человека.
— В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев, — вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?
Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:
— Сколько раз!
— Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.
Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!
* * *
Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.
Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.
А в роли эти необходимые элементы отсутствовали.
Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора:
Явление 6
А р д. В экипажах и пешком.
А княжна Мэри.
А р д. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
А р д. Его нужно пить.
Это вы так о ней выражаетесь…
А р д. Капризам.
В таком случае я способен переступить все границы.
Г р и б. Две чечетки.
Надо быть во фраке. Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..
Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.
— Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?
— Знаю.
— Что же? Скажи, голубчик!
— Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.
— По ком? — боязливо спросил я.
— До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.
Ушел я успокоенный.
На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:
— Ах, как подает! Чудо!
Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя:
— Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали — так с ума сойти можно.
Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.
Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:
— Ах, я ни за что не выйду замуж!
— Это не ваши слова, — сонно заметил суфлер.
— Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж». Дочка рабски повторила это тяжелое решение.