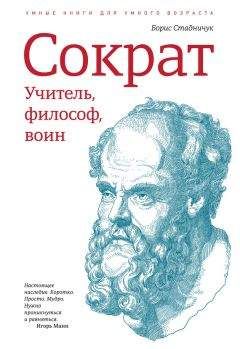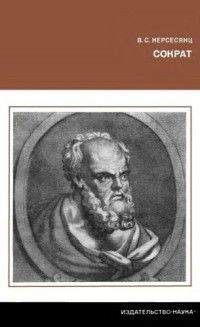6
Эти перелеты - странная вещь. Эти перелеты и самолеты - нечто немыслимое, несоразмерное ни с чем из того, что происходит с нами в обычной жизни. Что-то вроде репетиции, когда берешь с собой самое необходимое, - ограничение веса багажа, уж конечно же, отягощено еще и неким символическим смыслом отправляешься в своеобразное чистилище, где несусветная компания переминается с ноги на ногу в ожидании своего часа, заползаешь в чрево гигантской механической птицы и через считанные часы перемещаешься в иную реальность, где ты, может быть, уже и бывал когда-то, в какой-то другой жизни, и даже сохранил об этом смутные воспоминания, но все равно иной мир, куда ты попадаешь, обвешанный бирками и снабженный специальными бумагами, полными для простого смертного загадочного смысла. Чтобы не думать о скорости, движении, прошлом и будущем, чтобы не думать о вещах, разлагающих, разъедающих обыденную стройность мысли, проще всего уйти, провалиться в сон, в этот сладчайший внутриутробный сон, который сотрет, поглотит все ненужное и даст силы для тяжелого, всегда тяжелого приземления. Внутриутробный, поскольку как будто не спишь, а думаешь, и думаешь обо всем сразу одним разросшимся правым полушарием, но ни одну мысль невозможно поймать, она ускальзает, проходит сквозь сеть, прячется в холодной глубине. И ты совсем никак не управляешь этими волнами мыслей, они накатывают, пугают, баюкают, потому что заключен, неподвижен, прикован к месту, и все будто бездействует за исключением пульсирующего наподобие сердца мозга, терзаемого бурями; самые опасные воспоминания могут прокрасться и разорваться бомбой, потому что никто не стережет вход; самые несусветные вопросы могут заполнить голову до краев, затопить, заморочить в непроходимой чаще кажущихся достоверными, но на самом деле бутафорскими ответами. Когда каждая тропинка - не та. Но просыпаешься, выходишь из него, из этого сна, отдохнувшим, разглаженным, не помнящим грез, гладким, словно песок после шторма, заботливо разглаженный последней гигантской волной, не желающей оставлять после себя беспорядок. Словно ничего и не было. Все равно, когда летишь туда, время будет вычтено, перелет нарушает естественную связь минут и часов, и даже стрелки придется крутануть против их естественного движения. Прилетаешь помолодевшим, поскольку обычно новое место не хранит никакой памяти о тебе, а "назад" - приходится прибавлять, обязательно прибавлять часы, усталость, впечатления, - дополнительный багаж возвращающегося, намотавшего на себя время, как нить...
- У нас законом запрещено курение, врачи утверждают, что никотин вызывает онкологические заболевания, рак легких... - скрипучий голос соседа, уже некоторое время рассказывающего мне о себе и даже успевшего достать из бумажника семейную фотографию.
...исчезнувшего, канувшего куда-то и затем неуклюже пытающегося снова уложиться в свое штатное расписание.
- Я много курил в молодости, - продолжал сосед, - особенно во время войны, но потом...
- Давайте я пропущу вас, - мужской голос сзади.
- Спасибо, - женский, вежливо отстраненный.
Я прислушался: начинающееся трехчасовое знакомство.
Белая равнина за окном. Равнодушно голубое, мертвое небо. С земли оно кажется живым, разным, хмурым, теплым, радостным, тяжелым. Но когда пробираешься к нему за пазуху, оставляя облака далеко внизу, оно всегда кажется безжизненным. Голубое, но уже потемневшее, видимо, через час-полтора уже совсем погаснет и исчезнет этот потусторонний пейзаж с копошащимися под брюхом остановившимися облаками, не хватает разве что ангелов и прочих небожителей, овечек с хрустальными копытцами, грациозно скачущих с бугорка на бугорок, пегасов немыслимых цветов, к примеру, оранжевых или ярко-фиолетовых, огромных стрекоз с прозрачными ампулами глаз...
- Вас долго не было в Москве? - мужской голос за спиной.
- Около месяца. Я гостила у друзей.
Мне нравится ее голос. Довольно низкий, приятный, бархатный. Как она выглядит? Стараюсь не глотать, потому что боль устремилась в уши. Кажется, что шея стала необъятной, бычьей, распухшей. Все время приходится поправлять кашне - сдавливает, душит, вместо того, чтобы распространять теплое лечебное тепло.
- А я не был около года. Сам не знаю, что увижу. Из газет, ведь сами знаете...
- Вы живете в Люксембурге или работаете?
Ухудшение явное. В носу все раскалено, и боль от ушей стальными стрелами вонзается в ключицы. Что же это такое? Инфекция, может быть? Оттого, что я почти не глотаю, распирает грудную клетку и такое ощущение, что вот-вот разорвется сердце. Но время, когда я боялся за свое сердце, прошло. Теперь я почему-то за него не боюсь. В течение двух-трех месяцев после истории с Наташей я чувствовал, что смерть ходит за мной по пятам, ждет малейшей моей оплошности, чтобы наброситься и пожрать. Каждое утро я просыпался с мыслью, что начинается мой последний день. Я вспомнил свое отражение в зеркале, в узкой уборной самолета. Эти отвратительные тонкие седые усики, наподобие тех, что носят латиноамериканцы, нужно сбрить. Если были бы густые, черные как смоль волнистые волосы, толстые, жесткие, откинутые назад и обнажающие высокий мужественный лоб, тогда бы еще куда ни шло, а так в моем лице все не подходило одно к другому. Словно плохо составленный фоторобот. И очки тоже нужны другие, у этих слишком тонкая оправа, такие только лицеистам носить.
- Ну и что, не скучаете там?
Я чуть не умер тогда на скамейке перед ее домом, я просидел там весь день в надежде втайне взглянуть на нее. Как семнадцатилетний мальчишка. Как сопляк с распоясавшимися нервами, переживающий гормональный взрыв. Как прыщавый юнец. Я прикрывался газеткой, как шпик. Шпик из дурацкого телесериала. В десять я уже был на скамейке - так не было риска ее пропустить, ведь я знал, что раньше одиннадцати она не встает. Было очень жарко, по всему моему телу ручьями тек пот, руки дрожали, я каждые пятнадцать минут протирал очки, я мучительно разглядывал всех, кто входил в ее подъезд, пытаясь понять, к ней идут или не к ней. Я уже почти все понимал про нее, и в то же время мне казалось, что понимаемое мною - неправда. Видимость, подлая видимость, выдающая одно за другое, рядящая всех не в свои костюмы, короля - в шута, принцессу - в лягушку. Меня бил страшный озноб, я не ел уже несколько дней и не спал несколько ночей. После моего единственного визита к ней, я вернулся потрясенный и внутренне пошел в полный разнос. А может быть, все, что я видел и слышал, просто спектакль? Но с какой стати? Я оказался там случайно. Да и что я за зритель для нее? Я в любую минуту был готов к тому, что она может появиться, выпорхнуть из подъезда. Что бы я сказал ей, если бы она случайно заметила меня? Упал бы на колени, распугав прохожих, и произнес бы пламенную речь о страсти и тайных помыслах? Солгал бы что-нибудь? Я был готов к такой встрече. И поэтому совсем не знал, что сказал бы. Может быть, избитое до синяков "Прощай", поблагодарил бы за "редкость встреч, отраву поцелуя", закончив тем же, чем закончил бедный поэт, застреленный на дуэли?
- Я уехал, потому что мне стало скучно. Там я уже все прожил. Там не было ничего нового, а старое...
Скоро он спросил ее, замужем ли она.
- А вы женаты?
Ошибся. Вопрос прозвучал с ее стороны.
Когда около шести вечера к подъезду подкатил черный "saab", я сразу понял, что это к ней. Сверкающий автомобиль, купающийся в мягких вечерних лучах. Он просигналил два раза. Именно от звука сирены у меня забилось сердце и сильнейшая боль пронзила всю левую сторону. Я почему-то вспомнил финал "Смерти в Венеции", как несчастный герой, обливаясь потекшей с волос краской, умирает в шезлонге на пляже, любуясь своим белокурым мальчиком. Этот фильм тогда вызвал во мне отвращение. Просто я столь же жалок. Жалость снимает отвращение. Я ждал, что она вот-вот выйдет. Ком в горле и боль. Тошнота и страх, что организм выкинет сейчас что-нибудь ужасающе позорное. Я узнал ее сразу и в ту же секунду подумал, что отныне буду мучиться еще сильнее, вспоминая ее такую, в вечернем открытом платье, на каблуках, особо причесанную, на открытой загорелой шее - колье. Поблескивает. Ослепляет. Я никогда не видел ее такой. Только то же очень спокойное выражение лица. Из автомобиля вышел мужчина моих лет, совершенно седой, элегантно подстриженный, весь в черном, черный шелковый пиджак и черная водолазка, на руке - браслет.
- ...Сколько тебе лет?
- А сколько тебе хотелось бы, чтобы мне было, а, Питер? Девятнадцать, двадцать два, может быть, тринадцать? А? Питер? Признайся.
Она, как всегда, ушла от ответа. Я тогда про себя решил, что, наверное, около двадцати.
Полноватый. Он открыл дверцу. Что-то сальное было в его движениях, какой-то душок исходил от его спокойствия и уверенности в себе. Она равнодушно села на переднее сидение. Я стал искать по карманам валидол или нитроглицерин. Ничего не нашел. Сколько мне тогда было? Минус три года. Я был весь мокрый, и мне казалось, что я пахну потом за версту. Я боялся, что она почувствует запах, и... Ее профиль застрял у меня в мозгу - высокий пучок и локоны вдоль висков, она казалась молодой дамой, а не шикарной спортивного стиля девочкой, орлиный носик при ней, но в целом - совсем не она. Она и не она. Я еще долго сидел на скамейке. Это и есть ее итальянский муж? Или прощальный ужин с кем-то из прежних? Я добрел до дома к одиннадцати вечера почти что в бреду. Горло наливалось болью, и по телу разливался страшный жар. Что это еще за детские болезни? Я пролежал один неделю. Мама была на даче.