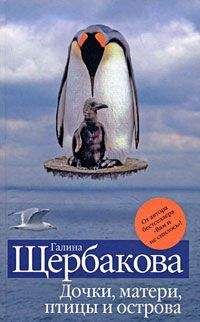Меж тем семнадцатый год кончается полной неразберихой. Мать пьет, Клим тоскует и вдруг зимой порывает с религией. Из большого поповского дома перебирается в сарай и кое-как приспосабливает его под жилье. А Пашка пропускает в реальном занятия, потому что половина учителей, не признавая новой власти, тоже манкирует. Впрочем, поначалу новая власть сама держится недолго. В город забредают то одни войска, то другие. К Челышевым никто не заворачивает, но у доктора все селятся с охотой, потому что дом с телефоном, ватерклозетом и водопроводом. Клозет и водопровод, правда, тут же бастуют, но телефон почему-то работает, соблазняя все проходящие через город регулярные и нерегулярные банды. И черт-те во что превратился бы дом, когда бы доктор однажды не сорвал аппарат, а заодно и наружную проводку.
Это почему-то впоследствии объявленное героическим время казалось Челышеву удивительно тусклым, и когда подраставшая дочка расспрашивала о гражданской войне, Павел Родионович не припоминал ничего особенно выдающегося. Вот только - получил в реальном свидетельство об окончании и поступил в Горный институт.
А Клим к бутылке не пристрастился - корпел на своем огороде. И вдруг на следующее лето ушел с деникинцами. Записался добровольцем. Чудной, в гимнастерке, в бриджах и крагах, забежал проститься на Полицейскую.
- С чего это ты? - удивилась Любовь Симоновна.
- Устал я, Люба, от хамья.
- Сам, что ли, из князей, гражданин Корниенко?
- Конечно, не дворяне, но место свое помнили. А нынче из всяких дыр вельми хамов и дурней вылезло. Обрадовались, свобода, мол, и верховодить хотят, чтоб уже вовсе никакой свободы не осталось.
- Евреи, что ли?
- Евреи, и кацапы, и наши хохлы... Все вкупе, - вздохнул Клим. - Не поверишь, Люба, но за комиссарами пошли такие, кто в погром больше всего старались. Им с кем вожжаться - один бес! Им лишь бы залезть повыше других! Вот и кровью страну залили...
- А офицерье что делает?! - вскинулся Пашка.
- Эти хоть обороняют свое, бывшее - святую Русь. Дело, конечно, обреченное, но понятное. Как ни гляди - родное... Комиссары же и песни своей еще не сложили - переделали юнкерскую и горланят: "Как один умрем в борьбе за это..." А какое оно это - не спросишь. За подобную любознательность они в подвале твои мозги по стенке разбрызгают. Свобода! Своя власть! Как же... Если эта - своя, так по мне лучше - чужая. Потому что при чужой бывшей власти бедному человеку куда просторней было. Сами виноваты. Что имеем, не храним. Вот и потеряли... Не так я жил. Все мы не так жили... А я еще от спеха и нетерпения, не разглядев, что к чему, крест с груди сорвал. Стало быть, ввел в соблазн малых сих... Вот и осталось одно - ать-два и направо.
- Красиво заговорил, - вздохнула Любовь Симоновна. - Сам-то хоть веришь, что красных осилите?
- Верил бы, Пашку с собой взял... - Клим обнял племянника. - Нет, победы не увижу. Для победы прежде надо было праведным быть. Так что не победа будет, а последний парад, и место мое - среди гибнущих... А Пашка пусть дома сидит. Он перед Россией пока безгрешен.
... Осень девятнадцатого года. Дождь. Холод. Скука. А еды - никакой, хотя у Челышева появился первый заработок: игральные карты. Не торопясь, в три-четыре вечера он изготовлял полную колоду. Правда, керосину уходило пропасть.
Пашка сидел у себя, а в материнской комнате жена Клима Леокадия нудила:
- Нелюди вы, Корниенки...
После ухода мужа она зачастила к невестке.
- Будет тебе, - безразлично отвечала Любовь Симоновна. - Меньше пилила б его, не удрал бы.
- Пи-ли-ла? Да у вас, у Корниенок, шило в одном месте...
- Я - что? Я дома сижу.
- Да кому ты теперь нужна, старая ворона? А то бы хвост кверху...
- Не нужна. Мы с тобой обе ненужные. На, пригубь...
Мать, поскольку портвейн исчез, не отвергала самогон.
- Ну ее, отраву. Пойду. Темно уже.
- Ночуй.
- А дом сожгут, с чем останусь?
- Кто на него позарится?
- Не скажи. Какие-то с утречка на мосту стали. Вроде ваши хохлы и матросы. Вели Пашке - пусть проводит.
- И не подумаю. Ей, видишь ли, сарай дорог, а мне и сына не пожалей? Вдруг застрелят?
- Не застрелят. Проводи, Пашенька...
Леокадия вошла в его комнату, и Челышев, смешавшись, прикрыл бубновую даму куском ватмана. Она получилась кругломорденькая и грудастая, точь-в-точь тетка. Это его удивило. Прежде, когда он оставался ночевать у Клима и Леокадия ходила по горнице, простоволосая, в одной холщевой рубахе, Пашка ее не замечал. Его тогда одолевали мысли о главном назначении человека, о том, как это главное не упустить. Но помрачневший после саморасстрижения, недовольный собой Клим отвечал неохотно: "Девок тебе портить пора. Грех, конечно... Но без малого сего греха, смотришь, больший выйдет. Не дури, парень. Главное - как мираж. Кажется - рядом, а подойдешь - отскакивает, и опять за ним топай. Главного - нету. Прежде оно было - Бог, а что такое теперь - ведать не ведаю..."
- Женщина просит. Неужто не проводишь? - спросила Леокадия, и Пашка вышел вслед за ней в сырую ноябрьскую тьму. Идя рядом с теткой, он поначалу размышлял, что вот, пока есть спрос, настругает дюжину или две игральных колод, а потом, возможно, подвернется чертежная работа в земуправлении. Все-таки должно кончиться шелопутное время... Но мысли о будущем были такими же неглавными, как мысли о картах. Он снова вспомнил убитую в гостинице беженку. Эта - пусть для себя одной - Главное чувствовала. Пьяная была. Счастливая. Все бросила, от всех убежала. Значит, было ради чего... Вот они идут с Леокадией по ночному вымершему городу. Где-то зацокали копыта. Красный, зеленый или еще какой патруль сдуру или со скуки хлопнет последнего в роду Челышева, и даже не поймешь, был ли в тебя заложен какой смысл. Даже колоды не дорисовал...
Копыта зацокали ближе. Пашке стало страшно, но и любопытно, словно стук подков должен был открыть сокровенное. Слева была теплая женщина, а справа зябко и сиротливо. Оттуда приближались конные.
- Пресвятая Богородица, - шепнула Леокадия и повисла на Пашке. Патруль проехал мимо. Лошади в темноте казались неправдоподобно огромными, а кавалеристы маленькими. Горбясь, они, как неживые, болтались в седлах.
- Пронесло, - вздохнула попадья, но Пашку не отпустила, и он удивился: она ведь собой не крупная, разве что круглая, а в темноте - большая.
- Скорей бы за мост... - шепнула женщина, хотя вокруг было тихо. Только дождь и ночь.
- Перейдем, - промычал Пашка.
Ему передалась напряженность Леокадии, и стало боязно отстраниться от женщины. Наоборот, хотелось вжаться, вмяться в нее, даже спрятаться в ней. Нет, это не было Главное, но уж чересчур дразнило и заслоняло собой все Горный институт, недорисованную колоду, даже убиенную беженку... Он подумал: если нынче застрелят, жизнь окажется бессмысленным обрубком без назначения и тайны.
На другой стороне часовых не было. Обойдя кладбище, попадья и Пашка подошли к сараю. Тетка сняла с двери амбарный замок, и из темноты дыхнуло чистым духом полыни. Пашка обрадовался, что под образом нет свечи. Лишнего глазу меньше. Не Бога он боялся, а Клима, словно это Клим подглядывал из угла.
- Иди, постлала... - наконец донеслось из темноты, и Пашка, словно у себя на Полицейской, словно это бывало ежевечерне, стащив сапоги и одежду, улегся справа под одеялом, где прежде укладывался Клим.
Запах греха был стоек и обволакивал, как сено или облако.
- Ой, Любови не показывай! - всплеснула руками тетка. - Ну, синющие...
И Пашка Челышев стылым ноябрьским утром нес под курткой эти синяки, словно молодой вояка первые шрамы.
Вечером мамаша ничего не сказала, и Пашка, наскоро пожевав, сел дорисовывать колоду. Вскоре его сморило, но среди ночи будто ударило молнией; он вскочил, не зажигая лампы, оделся, оставил записку с каким-то враньем и помчался через ночной страшноватый город.
- Ой, Пашечка, сладкий мой! Приохотила я тебя... - шептала женщина, а Пашка радовался, злился, страдал, мучился, чувствуя: падает, пропадает, проваливается, как под лед.
- Переезжай к ней, - говорит Любовь Симоновна в конце второй недели. Пашка склонился над чертежом. Руки у него трясутся и плечи трясутся, а колени (он вдавил их в табурет и чертит почти лежа) ноют. Простыл, должно быть.
- Переезжай, - повторяет мамаша. - А то от беготни чахотку наживешь. Еда сейчас какая?..
Пашка валится на койку. Его укачивает, будто глотнул самогону. Керосиновая лампа мечется по комнате, словно огромная бабочка, и когда Пашка, напрягшись, хочет задержать ее взглядом, затылок раздирает болью, а глаза так набухают, точно из них вот-вот брызнет гной.
- Мам... - шепчет он и теряет сознание.
Ночью, очнувшись, замечает, что отцовские часы вывалились из брючного кармана и показывают четверть третьего. Значит, еще затемно доберется до Леокадии. Но, наклонясь за сапогами, Пашка опрокидывает чертежную доску и приходит в себя лишь на девятые сутки, в декабре.
За окошком зима. На деревьях снег. Пашке легко, покойно. И кажется, что снег - во сне... Но глядеть на белое все же надоедает, и он зовет: