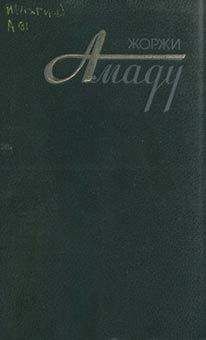И вместе со струей карболового гноя распахнул завклад в коридор:
— Срочная боевая задача — взрыть могилу на десять человек; ночью, знычит, привезут расстрелочных.
Копач Афанасий встал, почесал живот и, сказав «спать охота», вывалил наружу, визгнув дверным блоком. Завклад рванул лампу в конторе, фукнул в стекло и, сердито ковыляя, вышел за копачом в лиловую темь.
Ночные жучьи глаза двух фонарей оглядели, поворачиваясь, белый фартук завклада и ленивая темнота заговорила, брякая:
— Непорядок ночью копать.
— Фик ли задерживал.
— Копай сам.
Разговаривать хуже, завклад схватил было заступ и тронулся-было в лиловость, да ударил в самое ухо колокольчик и длинно задиньдринел, заливаясь, чепуху.
— Еще кого там черрти… Эй, кого надо?
Жуки глазасто повернулись и бледно зашарили по новым, некрашенным воротам.
— Бубнов… здесь живет?
— Чего? Какой, к чертям, Бубнов?..
— Бубнов, Андрей Алексеич. Из Харькова приезжий.
— Буб-нов? Ребята, кто здесь Бубнов? Нету здесь Бубновых, проходи.
Ворота бледно качнулись и скрипнули отчаянно, почти безнадежно.
— А мне сказали, он здесь? Будьте добры…
— Да это, никак, поп, — вывалил Афанасьев голос.
— Какой поп?
— Да новый. Отец Андрей. Упырь.
— А и вправду, Бубнов фамилия, — завклад отпер ворота, и жуки слабо проехались по глянцу потертой кожаной куртки и чемоданчику.
— Где ж он живет?
— Афанасий, проводи. Извиняюсь, сразу не распознаешь, — почти с нежностью в голосе. — Ну да, к попу. Он тут, за поворотом.
Круги жучьих глаз, качаясь, поплыли за кожаной спиной и чемоданом. Гладкая песчаная дорожка чуть сыровато глушила шаги.
— Во-от, за конторой. Здеся.
— Спасибо.
— В окно стучитя. Не спит ишшо.
Там-донн! — в желтый глаз окна — там-донн! — без ответа. Жуки плавно проплясали в лиловый бескрайный провал. Хоть знаешь, знаешь, никого нет, а кажется всегда на кладбище ночью: вот, кто-то глядит на тебя пустыми глазами, наблюдает, невидно наслаждаясь и злорадствуя. И серые листья березовые под желтым взглядом окна недвижно молчат — молчат, подтверждая.
— Кто? — из-за двери.
— Я.
— Кто я-то, госсподи?
— Андрей Алексеич, вы?
— Ктой-то, госсподи?.. стой, сейчас отопру, госсс…
И навстречу щелком английского замка — жареным маслом, — бензином уборной — в ноздри — и к тому же памятному старому мягкому пузу — в объятья
— ну и ну! Ну и удивил! А мы думали, здох, ей-богу, думали, здох а-а-а, ты сделай милость, чтоб всем шутьям взлететь на воздух — да не спотыкнись, здесь порог — во-от сюда-сюда — ну и похудел, ну и пожелтел — это уж в гостиной — ну и поугрел!
Гостиная как гостиная; рояль: резкий абажур желто бьет в глаза, уставшие, объевшиеся темью; жирные рукавицы кактуса понурились пыльно; как где угодно, как двадцать лет назад, — да не так.
— И вправду — поп. Думал — ошибка.
Гость устало-согнутой спиной въехал в диван, и чемоданчик поставил на колени.
— Да ты чего ж не раздеваешься-то? Ну и суетни, суетни теперь будет чемоданчик дай — а, чаю, чаю? — да чего-сь там чаю, а-а-а, ты сделай милость, як хохлы говорять: самы кошки забрешуть, як узнают! — тельца, тельца, тельца блудному сыну, а не чаю!
— И — давно — в попах?
— Ну, и есть же чем интересоваться с дороги — что за экстренность такая! — всего два года. Не-ет, ты о себе-то, о себе-то расскажи, а-а-а, ты сделай милость, чтоб всем шутьям взлететь на воздух, — вот не ожидал, а? Ну, випий, випий румочку сивушки, это ж только так, для начала, а там будеть получше, ей-богу ж, будеть получше, — да брось ты свой чемоданчик, — а сивушка для бодрости, потому нам еще пройтиться придеться, здесь невдобно, места нет, там же и ночевать будешь — ты покойников не боишься?
— Это куда? — устало спросил гость, вглядываясь в серый пузатый подрясник хозяина. — В мертвецкую, что ли?
— Зачем в мертвецкую? — ну, чудак какой, зачем в мертвецкую, точно и без мертвецкой нельзя обойтиться? А ты випий — випий — випий еще сивушки, — оно правда, румочка з наперсток, ну, да ничего, не беда, и я же с тобой одну випью.
— Почему его там — у ворот — упырем обозвали?
— Что ты — на волосы глядишь? Оно и нельзя без волос, служитель культа называюсь, ого, не как-нибудь! Да ты чего-сь чемоданчик держишь, брось его в угол, он же тебе мешает, а ты его держишь — выпил сивушку, ну, идем — того места нихто не знает — даже куфарка не знает — Афимья двер запри за нами, запри двер — только знаеть Валюська, да копач Хванас…
— А — она — здесь?
— Хто? Валюська? Валюська здесь, где ж ей быть, чудак, як не здесь, только она сейчас у клубе, до восьми в них занятия, з вин-тов-ка-мы занятия, а с восьми у клубе… ну, выходи, выходи, она запреть, ты, Афимья, як запрешь, ложись спать, баришня ключ звой имееть, ну идем, а-а-ах, ты, сделай милость, ну и удивил…
И на серый песок дорожки неслышно и внезапно лег ровный круг электрического фонарика, а тьма свернулась и неприветливо стала кругом.
— Вот сюда, во-от сюда, на памятник не наткнись, ушибешься, ну и памятники здесь, брат, на удивление, все буржуи строили звоим упокойникам, а чем я тебе угощу сейчас, небось вас за границей таким не кормили, стой!
— Ну, — по могылкам, як мотылек, за мной, у-у, шут, — подрясник приходится подбирать, як бабе подол, вот сюда, во-от сюда, стой, стоп. Здесь. Пришли.
И круг упал на небольшую, толсто-застекленную дверцу с крестом — венцами — сиянием.
— Да вы, Андрей Алексеич… Ведь, это — могила?
— Яка могыла, яка могыла, а еще в ниверсете учывся, як хохлы говорять, не могыла, а склеп, ну заходи, заходи, шоб не видели, то мой кабинэт, не стукнись, стой, я наперед зайду
— и мягким пузом прижал гостя к мокроватой черной стене прохода
— а-а-а, не бойся, ты ж солдат, от увидишь, хорошо ли будет, во-от увидишь, оно склеп называеться, склеп сэмэйства Грохольских, сходи по ступенькам, не оскользнись, тут не глыбко, а-а-а, еще фалить будешь, гарно сюбэкт придумал, скажешь, во-от, сейчас осветиться, лампу зажгу, а при буржуях лектричество було, не как-нибудь, а-а-а, то мой тайный кабинэт.
Вперед — вытянув руку, чтоб не удариться, шаг за шагом — за кругом фонарика — что за ерунда? — как во сне, — снова низкая дверь, — в могилу? в могилу, в могилу — свет фонарика мигнул — заколебался — пропал, озаренный ярким светом лампы
Комната, обитая резным коричневым деревом — мягкий диван, кресла, стол с грязноватой скатертью,
и торжествующее пузо в подряснике:
— От. То склеп сэмэйства Грохольских.
2.
Шоколадом — капустой — сырой паутиной — пахло чем угодно в склепе, только не покойником. Гость осмотрелся, сел и снова на колени поставил свой чемоданчик.
— Ну ж, чем тебя угощать — а-а-а, сделай милость, вот удивил, ей-богу, як сыну, сыну родному обрадовался, — давай, давай звой чемоданчик, ты не бойся, я ж осторожно, вот сюда, во-от сюда, ему тут будеть покойно… чем тебя угощать?
Бутылками и битым стеклом был забит угол комнаты; одна за другой заскакали бутылки из другого угла, из-под стола, из шкафчика; за ними коробка шпротов; яблоки на ущербленной тарелке; лимон с зажухлым обрезом.
— Вот и не сивушка, тепер располагайся, як дома, на диване и лягишь, а пока — випьем. Зубровки? Малиновки? Рому?
Потолок давил — землей — камнем — надгробием; сбоку, вместо стены, угрожала тяжелая портьера: там, конечно, покойники; да не портьера, а деревянная резьба; или чугунная? под ногой хрустнуло: поднял — раздавленный листик фарфора.
— То от венка — тут багацько раньше венков було, все убрать велел Хванасу, Хванас, это такой сюбэкт, — шоб не ботались под ногами… Да ты шо ж не пьешь? Ты пей… от, гляди, — запас… Ну, по третьей, гоп!
Зубровка засвербела в горле щекоткой, в глазах стало ясней, хоть и до безумия хотелось спать, неуютное чувство близости мертвецов затуманилось и поплыло куда-то кверху. Но — все-таки — непонятно:
— Почему его упырем зовут?
Ясно, впрочем — толстый и могилы оскверняет.
— Андрей Алексеич, а вы не вампир?
А привыкшие к свету глаза различили напротив — доску:
Здесь похоронены:
Иван Антипьевич Грохольский, 69 лет от роду;
Супруга его Матрона Прокопиевна, 56 лет от роду;
дети их: Евстигней, 23 лет; Алексей, 23 лет;
Младенец — Прокопий, 3 лет,
и Олимпиада, 23 лет,
а также
Онуфрий Онуфриевич Дыло.
Господи, приими их дух с миром.
Почему — Дыло? Откуда — Дыло? И почему Евстигнею, Алексею, Олимпиаде, всем по двадцать три года? Разве так бывает? Близнецы они, что ли? А должно быть, умирали постепенно, дойдя до двадцатитрехлетнего возраста. Но все-таки: при чем Дыло?
Тогда, словно в ответ, сквозь неутомимую трескотню из пузатого подрясника, доска приветливо поднялась кверху, — эх, если б не так слипались глаза, — и нарастая, вздымаясь, громоздясь один на другой, раскачиваясь, смеясь, подмаргивая,