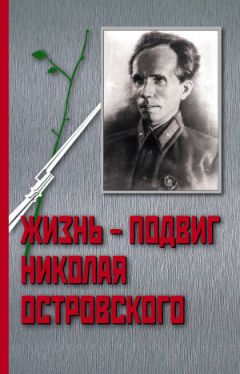не прогоню. И обид, и оскорблений, и всякого горя я видела в
жизни довольно; мне не привыкать стать. Мне теперь больно и
в то же время интересно; я должна узнать нравы и образ мыс
лей людей, с которыми меня свела судьба. Говорите, говорите
все, что вы чувствуете!"
ШКОЛЬНИКОВ-НЕЗНАМОВ. "Да-с, я говорить буду. Вот уж вы
и жалуетесь, что вам больно. Но ведь вы знали и другие ощу
щения; вам бывало и сладко, и приятно; отчего ж, для разно
образия, и не испытать и боль! А представьте себе человека,
который со дня рождения не знал другого ощущения, кроме бо
ли, которому всегда и везде больно. У меня душа так наболе
ла, что мне больно от всякого взгляда, от всякого слова; мне
больно, когда обо мне говорят, дурно ли, хорошо ли, это все
равно; а еще больнее, когда меня жалеют, когда мне благоде
тельствуют. Это для меня нож вострый! Одного только я прошу
у людей; чтоб меня оставили в покое, чтоб забыли о моем су
ществовании!.."
Фролова молчит.
ЗЮКИНА (подсказывает). "Я не знала этого".
Фролова молчит.
ЗЮКИНА. "Я не знала этого!"
ФРОЛОВА. Нет, здесь что-то не так. (Спиваку.) Пока он
нападает, провоцирует - все так. А как только начинает о се
бе... (Школьникову.) О чем это вы, гражданин начальник? Вы
молоды, здоровы, сыты. У вас почетная служба, повышения
быстрей, чем на фронте. Начальство к вам благоволит, самые
красивые женщины мечтают попасть к вам в домработницы. А
для души - театр. И не какая-нибудь самодеятельность
профессионалы. Чем же так наболела ваша душа?
СПИВАК. Лариса Юрьевна, здесь нет "гражданина начальни
ка". Есть товарищи по искусству.
ШКОЛЬНИКОВ. Мне кажется, я не давал вам повода говорить
обо мне... так.
ФРОЛОВА. Я и пытаюсь помочь товарищу по искусству. Про
фессионал еще может питаться чужим опытом. Любитель
никогда. (Школьникову.) Я только это имела в виду.
ШКОЛЬНИКОВ. Можно это сцену еще раз? С реплики Кручини
ной.
СПИВАК. Серафима Андреевна, вы можете работать?
ЗЮКИНА. Да, могу.
ШКОЛЬНИКОВ. Если можно - пусть Лариса Юрьевна.
СПИВАК. Что ж...
ФРОЛОВА-КРУЧИНИНА. "Говорите, говорите все, что вы
чувствуете".
ШКОЛЬНИКОВ-НЕЗНАМОВ (с нарастающим озлоблением).
"Да-с, я говорить буду. Вот вы и жалуетесь, уж вам и больно.
Но ведь вы знали и другие ощущения; вам бывало и сладко, и
приятно; отчего ж, для разнообразия, и не испытать и боль! А
представьте себе человека, который со дня рождения не знал
другого ощущения, кроме боли, которому всегда и везде боль
но... Одного только я прошу у людей; чтоб меня оставили в
покое, чтоб забыли о моем существовании!"
ФРОЛОВА-КРУЧИНИНА. "Я не знала этого".
ШКОЛЬНИКОВ-НЕЗНАМОВ. "Ну, так знайте и не расточайте
своих благодеяний так щедро! Вы хотели избавить меня от пу
тешествия по этапу? Для чего вам это? Вы думаете, что оказа
ли мне услугу? Нисколько. Мне эта прогулка давно знакома;
меня этим не удивишь! Я уж ходил по этапу чуть не ребенком и
без всякой вины с моей стороны".
БОНДАРЬ-ШМАГА. "За бесписьменность, ксивы не было".
СПИВАК. Виду! "Ксивы". Мы же только что об этом говори
ли!
БОНДАРЬ. Не поймут.
СПИВАК. Поймут. Человек человеческий язык всегда пой
мет. Впрочем, скотский, если постараться, тоже. Еще раз.
ШКОЛЬНИКОВ-НЕЗНАМОВ. "Я уж ходил по этапу чуть не ре
бенком и без всякой вины с моей стороны".
БОНДАРЬ-ШМАГА. "За бесписьменность, виду не было.
Ярлычок-то забыл прихватить, как его по имени звать, по
отчеству величать, как по чину место дать во пиру, во беседе".
ШКОЛЬНИКОВ-НЕЗНАМОВ. "Вот видите! И он глумится надо
мной! И он вправе; я ничто, я меньше всякой величины!.."
Пауза.
СПИВАК. По-моему, хорошо. Лариса Юрьевна?
ФРОЛОВА. Другое дело.
СПИВАК (Школьникову). Запомните это состояние.
БОНДАРЬ. Перекурить бы, Ефим Григорьевич.
СПИВАК. Перерыв. Всем можно переодеться. Захватите мой
балахон. (Отдает балахон Жуку.)
Бондарь, Жук, Школьников и Зюкина проходят в гримубор
ную, берут свою одежду. Бондарь и Жук скрываются за
кулисами.
ЗЮКИНА (Школьникову). А вы, оказывается, изменщик, Петр
Федорович! Не захотели со мной играть? Вот уж верно
Аннушка говорит: "Мужчины-то нынче сначала очень
завлекательны, а потом часто бывают и очень обманчивы".
ШКОЛЬНИКОВ. Нам с вами, Серафима Андреевна, надо бы
здесь уши прижать, и только сидеть тихонько и смотреть и
слушать. И спасибо говорить, что не гонят.
ЗЮКИНА. А это еще почему?
ШКОЛЬНИКОВ. Не понимаете? Ну, поймете. (Вместе с Зюки
ной уходит за кулисы.)
Дождавшись, когда гримерка опустеет, Фролова подходит к
печке, извлекает из-под хлама начатую банку тушенки и начи
нает есть, тщательно выбирая пальцем и хлебом содержимое
банки. Появляется СПИВАК. Фролова не замечает его. Спивак
молча смотрит, как она ест, затем тихо уходит на сцену.
В гримуборную, переодевшись, возвращаются участники
спектакля. Фролова быстро прячет банку. ШКОЛЬНИКОВ, не за
держиваясь, проходит на сцену. ЖУК останавливает БОНДАРЯ.
ЖУК. Слышь, Иван Тихоныч, я усе понимаю. Одного не по
нимаю. Почему ты японский шпион? Ладно бы немецкий или
румынский.
БОНДАРЬ. Да сначала так и хотели. А потом следователь
прикинул: больно много получается у нас немецких шпионов.
Органы, выходит, прошляпили? А на румынских еще моды не
было. Так и решили: пусть буду японским, перед войной я как
раз в театре во Владивостоке работал.
ЖУК. Вон оно что! Тогда понятно.
Бондарь одаряет всех папиросами. Конвойный с досадой
вертит в руках пустой портсигар.
ЗЮКИНА (дает ему взятую у Бондаря папиросу). На, зем
ляк, закури. И помни нашу доброту.
БОНДАРЬ. А в другой раз запасайся "Казбеком".
КОНВОЙНЫЙ (задохнувшись от возмущения). "Казбеком"?! А
дерьма сушеного не жалаешь?
ЗЮКИНА. Будешь грубить, пойдешь курить на мороз.
КОНВОЙНЫЙ. Ну, артисты! Вот уж одно слово - артисты!..
Конвойный и участники спектакля курят. На сцене - СПИ
ВАК и ШКОЛЬНИКОВ.
ШКОЛЬНИКОВ. Ефим Григорьевич, у меня в самом деле хоро
шо получилось? Или вы просто для поощрения?
СПИВАК. В самом деле. Один вопрос - чтобы помочь вам
зафиксировать ваше внутреннее состояние. Кто был перед
вами, когда вы произносили монолог?
ШКОЛЬНИКОВ. Мать. (Помолчав.) Последнее время меня
преследует ощущение раздвоенности моей жизни.
Расщепленности на-двое. Даже на-трое. В первой жизни я
должен был стать актером. Если бы не война, поступил бы в
театральный. Я обязательно стал бы актером. Может быть
неплохим. Особенно если бы повезло поработать с хорошими
режиссерами. Пусть даже не с такими, как вы, но есть же
хорошие молодые режиссеры - Товстоногов, Гончаров,
Завадский.
СПИВАК. Как знать, как знать. Может, вам удастся пора
ботать и с ними.
ШКОЛЬНИКОВ. Каким образом?
СПИВАК. Таким же, как и со мной.
ШКОЛЬНИКОВ. Ефим Григорьевич, я настоятельно прошу
вас оставить шутки подобного рода!
СПИВАК. Виноват. Задумался. И забылся. А когда я заду
мываюсь, я всегда забываюсь.
Пауза.
БОНДАРЬ (Конвойному). Как дела на фронте, земляк? Как
там наши?
КОНВОЙНЫЙ. Как ваши - этого мы не знаем. А наши ведут
наступление на Сандомирском плацдарме. Захвачен ряд страте
гический пунктов.
БОНДАРЬ. Каких?
КОНВОЙНЫЙ. Сказано тебе - стратегических!
ЗЮКИНА. Да он и сам не знает.
КОНВОЙНЫЙ. А вот и знаю! Этот, Кенигсберг, взяли. И
этот, Рутен... брутен...
ЗЮКИНА. Бутерброд.
БОНДАРЬ. Рутенберг?
КОНВОЙНЫЙ. Он самый. Название у них - даже говорить
противно. То ли дело у нас: Ленинград, Сталинград!
ЗЮКИНА. Сыктыквар.
КОНВОЙНЫЙ. Вот ты вроде и не по пятьдесят восьмой си
дишь, а нет в тебе никакого патриотизьма!
БОНДАРЬ. Рутенберг. Это в Восточной Пруссии. Километров
двести пятьдесят до Берлина.
ЖУК. Не так и много.
БОНДАРЬ. Это если на поезде. А ползком, да под огнем...
ЗЮКИНА. Все равно - скоро. Скоро уже! Победа, а потом
амнистия! Обязательно будет! Нам надо выложиться, корешки!
Надо такой спектакль зафуячить, чтобы вся эта сволочь в три
ручья зарыдала: два из глаз, один из жопы!
ЖУК. Сима!
ЗЮКИНА. Ну, ладно, ладно - из носа! (Проходит по гри
мерке в лихом приплясе.)
Гоп-стоп, Зоя,
Кому давала стоя?
Я давала стоя
Начальнику конвоя!
БОНДАРЬ. Чтобы зэк зарыдал, ему много не надо.
ЗЮКИНА. Какой зэк, какой зэк? Я про первый ряд говорю!
Чтоб кителя у них от соплей намокли, а у ихних жен чтоб всю
штукатурку с морд смыло! Вот какой нужен спектакль! Сделаем
- опер нам все устроит. У него даже на самом верху отчим-фу
етчим. Старлей, а даже к начлагу дверь ногой открывает!