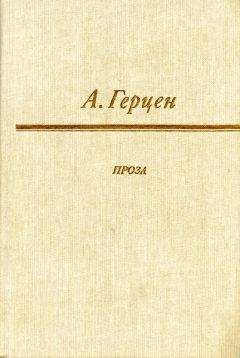— Что угодно приказать вашему сиятельству? — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. — Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной женщиной.
(— Я и это видел, — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе.)
— Приказывать нечего, — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу, — можно ли приказывать таким глазкам: они должны приказывать.
Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся, подошел ко мне и, сказавши: «Ne faites donc pas la prude,[17] не дурачься, ну, посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе…», он взял меня за руку; я ее отдернула.
— Князь, — сказала я, — вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.
— Mais elle est charmante![18] — возразил князь. — Как к ней идет этот гнев! Да полно ролю играть.
— Князь, — сказала я сухо, — что вам угодно в моей комнате в такое время?
— Ну, пойдем в мою, — отвечал князь, — я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее тебя. — И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен, с дрожащими губами, с выражением… с гадким выражением.
— Дайте вашу руку, князь, подите сюда.
Он, ничего не подозревая, подал мне руку; я, подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его:
— И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону?[19] — Я расхохоталась.
Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича:
— Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса…
Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай.
Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу — вам рассказывать ряда мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту, со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог поступить со мною, он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами… хуже всего этого были последние слова князя; они врезались в голову, в сердце; я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них… Я не могла отделаться от них, забыть… С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы, и я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет… С тех пор больная, в каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль, зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. Итак, все кончено — и талант и жизнь… прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене! Поживу еще года два с Князевыми словами: их бы вырезать на моей могиле.
Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала:
— Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма — не дают. «В таком случае, — сказала я режиссеру, — я куплю на свои деньги что надобно и сошью его себе». Надеваю шляпку и хочу идти в лавки.
— Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?
Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там; подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки.
— Странное время тебе назначают любовники для свиданья — утром! — заметил князь к неописанному удовольствию управляющего и лакеев.
Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было незапятнанное; оскорбление вывело меня из себя.
— Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!
При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.
Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей… она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала:
— Я сдержала слово!..
Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящна казалась она мне в эту минуту признания!
Мы помолчали.
— Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других: в нем все лихорадочно, безумно: в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность… Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать.
— Князь знает? — спросил я.
— Вероятно, знает; он все знает… да я бы была в отчаянии, если б он не энал. Я не боюсь его; я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не видавши человека… теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение… Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову! малютка будет его, он ему скажет: «Прежде всего ты мой». А, впрочем, я так слаба, так больна, что бог милостив — приберет и его.
— Да нельзя ли как-нибудь… располагайте мною.
— Нет; вы видите, как нас строго пасут.
«Бедная артистка! — думал я. — Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».
— Пора нам расстаться, — сказала она печально.
— Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь…
Она улыбнулась.
— Вспоминайте иногда, что и во мне…
— Погибла великая русская актриса!..
Я вышел, заливаясь слезами.
— Знаешь ли, какая радость? — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. — Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. — Он с торжествующим лицом подал мне бумагу.
Условия были превосходны.
— А знаешь ли ты новость? — отвечал я ему. — Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.
— Да что ты, с ума сошел?
— Не знаю, но я здесь не останусь: климат не здоров для художника. А? Подумай-ка, да и поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!
— Я бы и готов, право, воротиться, — отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных, — да ведь с голоду там умрем.
— А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.
Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:
— Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло: как удивится Василий Петрович, когда мы через две недели воротимся, вот удивится-то!
Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил:
— Ну, а управляющему какой ответ?
— Тут очень затрудняться нечем: не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут: вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василью Петровичу.
— В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны; пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться! — И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского».[20]
Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигары курить — ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские домы с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.