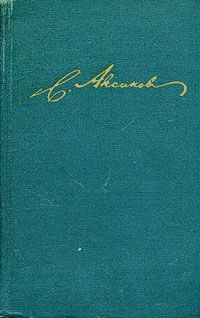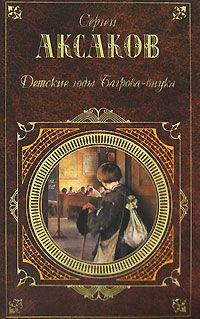"Свихнулся", - подумал Владимир Сергеевич.
Тан ухмыльнулся и сказал:
- Уверяю вас, я в здравом уме. Не смущайтесь, прочесть ваши мысли несложно. Поверьте, я ничуть не обижен. В счастливой догадке всегда присутствует определенный сдвиг по фазе. Итак, я создал систему тестов - из хаотической мозаики, которая составляет личность, надобно вычленить элементы, образующие ее код. Конечно же далее вы обязаны расположить их в таком сцеплении, когда они все взаимовлияют. Граница болевого барьера и порога сопротивления, степень страха, объем информации, уровень фаустовского комплекса - иначе говоря, игра в молодость и зависимость от нее, - энергия приспособления... Я не назвал и сотой доли жизненно необходимых параметров, чтоб прочесть кардиограмму судьбы. Не буду сейчас забивать вам голову. Суть в том, что это взаимодействие может быть математически выражено.
- А случайность? - спросил Владимир Сергеевич.
- С вами приятно вести беседу. Тут и была сердцевина задачи. Понять случайность как сочетание детерминированных предпосылок! Есть надоевшее выражение: а если кирпич упадет на голову? Кирпич выбирает ту самую голову, которая для него предназначена. И это не то, что без воли Божьей волос не упадет с головы.
- Какой вы все-таки честолюбец, - развел руками Владимир Сергеевич. Присваиваете право Создателя.
- Нет, я - не создатель, не автор. Я читатель, но читаю я рукопись. До того, как она опубликована и книгой для всех еще не стала.
- А редактором вы быть не стремитесь?
- Зачем?
- Усовершенствовать рукопись...
Тан опасливо его оглядел. "Смотрит так, будто ждет подвоха", - удивленно подумал Владимир Сергеевич.
- Повторяю вам: я - читатель. Но очень внимательный читатель. Мое дело прочесть, оценить, но не править. Да это, должно быть, и невозможно. Как в истории, так и в отдельной жизни обстоятельства сходятся в пучке и завязываются в узелок. Принцип гибели человека тот же, что гибели цивилизации. Исчерпанность или переизбыток. Существует свой "синдром кирпича". Нужно лишь вычислить его формулу в каждом случае - и становится ясно, как в нелепости проявилась судьба. Ибо есть точка пересечения неизбежности и случайности.
- И вы можете определить ее место?
- В принципе - она вычисляема. Так же, как всякое совмещение пространства и времени.
- Вам удалось? - Владимир Сергеевич предусмотрительно придал интонации вполне деловой, нейтральный оттенок.
- Полагаю, что так. Но это жестокая удача. Особенно изнурительно чувство, которое приходилось испытывать, когда при мне обреченные люди строили планы, делились надеждами. Жаль, погружаясь в чужие жизни, я не занимался собой и потому не сумел предвидеть, что поджидает меня самого. Ваше здоровье, я рад вас видеть.
Владимир Сергеевич молча чокнулся. Может ли он ответить тем же? Он предпочел в себе не копаться.
- Ну вот, преамбула завершена, - сказал Тан, - перейдем непосредственно к фабуле. Примерно лет пятнадцать назад я свел знакомство с семьей Киянских фамилия эта вам, видно, знакома. Они проживали - отец, мать и дочь - в одном из лирических переулков между Пречистенкой и Остоженкой. Тогда, разумеется между Кропоткинской и Метростроевской: до Реставрации еще оставались годы и годы.
Меня привлекла, естественно, дочь, миниатюрное существо, прозрачное, почти невесомое. Ее воздушность меня умиляла, особенно маленькие руки. Должен сказать, что она была весьма одаренной пианисткой, уже приобретавшей известность. Я часто бывал на ее выступлениях и просто не мог себе объяснить, как покорялись ей произведения, требовавшие мощи и силы. Не мог понять, как ей удается после этого выжить и уцелеть?! Каждый раз мне казалось, она не встанет, так и останется у рояля, на бархатном стуле, как на плахе. Как могут эти бесстрашные пальчики исторгнуть из клавиш такую бурю? В жизни все было наоборот - тиха, неуверенна, часто задумывается. Но это и сообщало ей какую-то особую прелесть. По крайней мере в моих глазах.
"Однако, - подумал Владимир Сергеевич, невольно любуясь, как аккуратно он нарезает ломтики хлеба. - Очень чувствительный господин. Вот уж чего не ожидал".
Тан - почти мгновенно - откликнулся:
- Я был достаточно честолюбив - эту черту вы во мне подметили, - чтобы запретить себе влюбчивость. "Мы все глядим в Наполеоны", я с малолетства вбил себе в голову: надо выбрать между миссией жизни и жизнью души - сосуществуя, обе становятся ущербны. И вот впервые я ощутил такую зависимость от женщины. При этом замечу, что интерес нежданно оказался взаимным - она сразу и безотчетно поверила в то, что я призван открыть заповедное.
Вскоре я близко узнал и родителей. Мать Кати просто собой заполняла определенную часть пространства, а вот отец ее, тот заслуживает, чтобы сказать о нем несколько слов.
- Киянский... да, я слышал о нем, как же... - кивнул Владимир Сергеевич.
- Не слышать вы попросту не могли. Он сделал все, чтобы быть на слуху.
- Но мы не сталкивались.
- Вам повезло. Мало в ком с такой сатирической резкостью сфокусировались характерные свойства и черты приживала почившей Системы. Само дело, которому он посвятил себя, было по-своему показательно. Не знаю, с чего он начинал. Когда мы встретились, он регулярно ставил торжественные представления и всякие массовые действа к официальным праздничным датам.
К этому своеобразному творчеству он относился с молитвенным трепетом, с придыханием, ощущал свою избранность, а когда поучаствовал в открытии Спартакиады, и вовсе почувствовал себя национальным достоянием. "Смею думать, - повторял он частенько с элегическим вздохом, - в этой стране нет большего знатока и мастера концертной драматургии, чем я". Иной раз произносил доверительно: "В труде художника есть нечто жреческое".
Владимир Сергеевич рассмеялся:
- Ну, это из наших любимых мелодий.
- Наверно. Но он бы себе не позволил вашей улыбки - она кощунственна. Ты либо жрец, либо профан.
Он был представительным мужчиной высокого роста, большеголовый, с уверенной выработанной походкой. Выглядел бы вполне импозантно, если б не саблезубый рот. Был очень охоч до "мужских разговоров", которые обожают вести неудачники сексуального фронта. При этом загадочно улыбался, будто чего-то недоговаривал. Иной раз устало теоретизировал: "У мысли - свои эрогенные зоны".
Возможно, что-то ему доставалось - сказать точнее: перепадало - от молодых, корыстных стрекоз, участвовавших в его массовках, но ни одной независимой женщине он не сумел внушить симпатии. Однажды я даже полюбопытствовал у некой весьма неглупой особы, в чем заключается причина такого тотального равнодушия. Казалось бы, выигрышные стати, осанка, величественные манеры. Она небрежно пожала плечами, поморщилась: "Пирожок с ничем".
- Зато о даме так вряд ли скажешь.
Тан согласился:
- Никак не скажешь. Она как раз пирожок с перчиком. Впрочем, он не был столь безобиден. В так называемой общественной жизни и уж тем более - в служебной был омерзителен, невыносим. Охотно осуждал, кого требовалось, охотно поддерживал все почины, всегда был в первых рядах добровольцев. Надо было хоть раз увидеть, как он общается с начальством - приятно трепеща, чуть пригнувшись, стараясь попасть и в тон и в лад. Зрелище было порнографическое. Когда пресмыкается сморчок, это хоть скрадывается габаритами, как-то сливаются вид и суть, когда же так откровенно холопствует мужчина великолепного роста, с барственно-вельможной повадкой, испытываешь тоску с тошнотой.
Он вознаграждал себя дома. Там его хищные клыки уже не прятались под улыбкой. Впрочем, обманывали и они - на крупного зверя он не тянул. Но в его отношении к жене и дочери я чувствовал нечто вампирическое.
Жена его была стабильно болезненная, рано расплывшаяся дама. Из-за своих жировых отложений она пребывала в смертельной панике - однажды настанет день прозрения, ее эстетический супруг не вынесет таких диспропорций. Она лечилась, она голодала, даже ходила в турпоходы. Бессмысленно - лишь набирала вес.
Что же до Кати, то он не умел скрыть своего ревнивого чувства к ее нараставшему успеху. Досада была даже острее, чем та, что испытывал он к коллегам. То были чужие, а его дочь, черт побери, была его частью, его отростком, и вот частица, оказывается, значительней целого и вообще давно пребывает от этого целого автономно. Сказать об этом вслух он не мог, зато он мог отравлять ей жизнь.
Меж тем это странное создание любило отца, причем не дочерней, скорее материнской любовью, готовой к прощению и снисхождению. Все его выходки, нетерпимость, его упоение собой, позерство, дурацкая трубка в зубах - все вызывало у этой девочки не грусть, не растерянность, не раздражение, а удивленную растроганность - что взять с этого большого ребенка?
Самое верное, что я мог сделать, - увести ее из этого дома. И сам был захвачен и ощущал, что я ей совсем небезразличен, а вера ее в мое назначение радовала меня беспредельно. Но медлил - плохо видел себя в роли семейного человека, а мысль, что я породнюсь с Киянским, вызывала у меня содрогание.