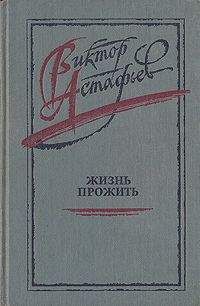Было это уж, считай что, в Прикарпатье, близ Западной Украины. Весной было. Ранней. Карусель содеялась такая, что ничего не поймешь: то немцы у нас в окружении, то мы у них, то и немцы и мы в окружении, в чьем — одному Богу известно. Взяли один древний городок. Сдали. Опять что-то взяли, его же вроде, только уж ночью. Не узнать городишко. Побит, искрошен, весь в дыму. Опять нас в поле боя вытеснили, в село иль местечко какое. Мины на исходе. Патронов по счету. Голова кругом. А тут метель! Ми-и-ила-а-ай! Скажу кому — не поверят. В апреле на Украине трава зелена, цветки по солнцепеку пошли — и метель! Да что метель! Светопреставленье! Видно, и впрямь люди Бога прогневили. Хаты до застрех занесло. С ног валит. А мы бьемся. Немец технику всю в сугробах кинул и на нас толпою. Дело дошло до того, что рубили его на огневых позициях лопатами, топорами. Я как сейчас помню: небо прояснело, на минуты прояснело, клок появился, солнце как очумелое откуль-то в дыру вырвалось, или уж опять же Всевышний его выслобонил — полюбуйтесь, дескать, чады Мои или исчадья, что творите! А весь косогор по спуску к Оринину — вот и местечка названье вспомнилось! — весь он будто в черной осетровой икре. В черное-то, по снегу белу плывущему, в упор, прямой наводкой лупят и малые и большие калибры. Гаубицы-полуторасотки как жахнут осколочным — в черном дыра. Брызги вверх, клочья, лохмотья. И тут же дыра, будто воронка на бурной весенней реке, в пороге, закружится, завьется и сором заполнится. Людским сором! О Господи! Я по сю пору как во сне это увижу, так и проснусь. А попервости вскакивал и орал. Один раз на пече спал, как подброшусь да как башкой об потолок треснусь — огонь из глаз! Вот ты не смеешься, потому что на своей шкуре все такое испытал. А внучка моя да и какой иной молодняк — станешь рассказывать — ржут. Имя это все вроде как комедия. Не приведи Господи никому такой комедии! Я, покуль внучки не было, как-то не так все об мире и войне переживал. А теперь вот газету скрозь прошерстю, радио послушаю, от телевизору не отрываюсь, когда про международную обстановку говорят, — и одна у меня дума; неужто опять? Неужто детей побьют да обездолят, и мою Клавочку тоже?..
Да-а, а немец-то тогда, что ты думаешь? Прошел! Частично, конечно, потрепанный, битый, но прошел. У нас, считай что, нечем его стало бить и некем. Устали мы, обессилели. Упорный вояка немец, ох какой упорный! Шел фашист по руслу речки, что рассекала Оринин пополам. Летом, должно быть, тут сухой лог, но вот по весне речка вскипела. Шел слепой толпой, не выбирая пути, где бродом встречь воде, где обочиной, где по отвесным каменьям. Молчком шел, без выстрела, и кто падал, того уж не подымали, даже не обертывались. Мы по-над речкой лежим, считай что, с пустыми автоматами и винтовками. До врага рукой подать. А он идет и идет. Иного вояку в речку уронит, водой катит. Он за каменья хватается, за кусты, но на помощь не зовет.
И вот всякой страсти я натерпелся, страху-ужасти, с ума сойти, сколько испытал — не дай Бог никому, но той речки, того местечка Оринина вовек не забуду. Сказывали, что середь немцев сумасшедших потом много оказалось, да и я, скажу промеж нами, уж опытный боец, а чуть умом не сдвинулся. Это тебе, парень, не кино, не постановка, это война, битва смертельная…
Назавтра после боя, когда враз все затаяло и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что и не счесть. Как дрова, лежат люди, только в поленницы не сложенные, друг на дружке. Вот назавтра-то после боя командующий Четвертой танковой армией товарищ Лелюшенко ездил по частям. Двадцать седьмая армия в те поры вроде бы на Втором Украинском фронте двигалась, а нашу минометную часть, стало быть, товарищу Лелюшенке передали. Хорошо он вел себя, сказывали бойцы — солдат, он все про все знает, — будто бы самолет «кукурузник» стоял наготове, но командующий им не воспользовался, а вот роту охраны и танки из своего личного сбережения в крутой момент кинул в бой, потому как в школе в орининской был госпиталь и лежало там множество тысяч раненых, да и вообще штабов, тыловых частей что-то многовато в Оринине оказалось, как и кто их оборонит? Что тут правда, что тут брехня, на которую солдаты горазды не меньше бабки Сысолятихи, я тебе сказать не могу, но видел потом убитого в поле капитана — вся грудь в орденах, будто бы командир роты охраны командующего, и танки наши новы, тяжелы — тоже видел, четыре штуки — стояли без горючего и без снарядов.
Из хаты мы, помню, выскочили, выстроились. Командующий в «виллисе», за ним бронетранспортер, машины.
Смотрит на нас генерал товарищ Лелюшенко и молчит. Да и что говорить-то? Смена обмундирования зимнего на летнее первого мая. Бой произошел в середине апреля, к этой поре от земляной работы, от окопов, минометов и ящиков с минами до того обносишься, изорвешься… А тут вон какая весна! Грязь, бездорожица и еще эта погибель — метель-то… Смотрит на нас товарищ генерал, головой качает, и никаких речей ни он, ни люди в кожанах, его сопровождающие, не тратят. Спросил командующий, как с харчишками, с куревом. Мы плечами пожимаем — известно как: на бабушкином аттестате.
— Скоро все будет. Скоро еду, курево, новое обмундирование подвезут. К празднику, — заверил генерал. — Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей победы. Соседи наши на Втором Украинском государственную границу перешли, и мы с ей рядом. И за это вам спасибо! Кухня будет, обещаю. Отстала кухня.
Тут кто-то из генеральского окружения пошутил: кухня, да санчасть, да военная лавка — оне, мол, отвеку наступают сзаду, отступают спереду. Наш один минометчик-грамотей в поддержку на свой лад «Теркина» вспомнил: «Пушки задом едут к бою, самовары вверх трубой!»
Генерал устало так, накоротке улыбнулся:
— Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и похоронить трупы. Много убитых. Весна. Тепло. Грязь. Крысы. Эпидемии не было бы. И, пожалуйста, без глумления над трупами. Хоть они и фашисты. Пожалуйста…
На исходе лета звякнуло меня еще, на этот раз в кость, и прокантовался я в госпитале осень и почти всю зиму, наших с самоварами догнал уж под Кенигсбергом. От Кенигсберга мы пошли на Берлин, но не достигли его. В пути нас застала победа. И только мы постреляли в воздух, погуляли, мне документы в зубы — и домой. Одного из части демобилизовали. Что, думаю, такое? И какой у меня дом? Где он у меня?
Письма мне приходили редко. Из Изагаша писала Лилька, ну та самая сеструха-воструха. А что в деревенском письме? Поклоны от родных да знакомых, в конце: «Живем, не помирам, чего и вам желам!» Ну, еще насчет победы — ждем, мол, со скорой победой, живым и здоровым. Среди поклонов я особо выделял глазом привет от Татьяны Уфимцевой. Понимаю, что сеструха его сама присобачивала, может, и не спросясь, а все приятно. Один раз я взял да и поздравил Татьяну с седьмым ноября. Добыл открытку-письмо с красноармейцем на наружной корке, красивым таким, чернобровым, в казацкой папахе и со знаменем в руке, на нас, окопных вояк, и отдаленно не похожим, но для письма девушке самым подходящим. Так и так, накорябал я, поздравляю землячку и труженицу тыла с праздником Великой революции и желаю доброго здоровья! Всем Уфимцевым также кланяюсь и шлю боевой привет с фронта! В ответ мне: «Спасибо за поздравление, дорогой воин Иван Тихонович! Мы также желаем вам крепкого здоровья и победы над врагом социализма».
Меня это письмо в прах расшибло. Зачем же так-то? Я к ней всей душой, с намеком, а она, как в газетке про социализм — «мы», «вам», «дорогой воин»! Озлился я и не пишу боле. Все! Вырвато из сердца. Вырвато оно, конечно, вырвато, да как отоспался в госпитале, да и после госпиталя, ближе к победной весне, глаза закрою — и вот оно: по взвозу, белому от инея, девушка по траве идет, за нею след зеленый вьется, волосья в росе, косыночка на косе — вспомню и не могу. Разорвал бы я то кино! На клочки! Но лучше б по следу кинулся по зеленому, да остановил бы кино-то, да вынул бы с экрана девушку… Словом, парень, влюбился, что рожей в сажу влепился! Одно слово — молодость! Берет она свое даже на войне, в преисподней той земной, на краю гибели, и требует соответствовать назначению твоему мушшынскому.
Получил я, стало быть, документы и к командиру батареи: что, говорю, делать, товарищ капитан? У меня ведь фактически и дома-то нет. Мне ведь фактически и ехать некуда и не к кому. Может, мне на производстве каком осесть, профессии обучиться и вместе с остальным народом начать подъем разрушенного хозяйства? Я тогда горючку клятую еще мало пил, считай что, и не пил совсем. Капитан это знал и не поощрял в пагубном деле молодняк. Но тут налил мне товарищ капитан почти полную кружку малированную, брякнулись мы кружками безо всякого чиноразделения, по-братски брякнулись, он и говорит:
— Есть у тебя дом! Есть! И есть тебе к кому ехать. Есть что поднимать, есть кого любить и оплакивать…