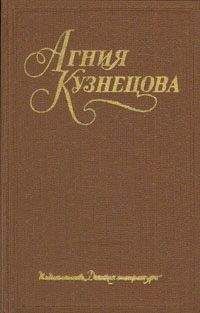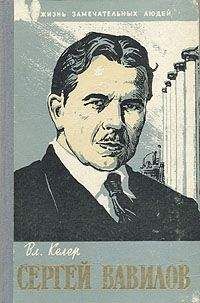Он вошёл в комнату и оглядел живыми прищуренными глазами стулья и табуретки, стоящие вокруг накрытого белой скатертью, ожидавшего гостей стола, стенные часы, платяной шкаф, китайскую складную ширму с вытканной шелком фигурой крадущегося тигра среди зеленовато-желтого бамбука.
— Эти некрашеные книжные полки напоминают мою ленинградскую квартиру, проговорил Мостовской, — да и не только полки напоминают, но и то, что на полках: вот «Капитал», и Ленинские сборники, и Гегель — по-немецки, а на стене портреты Некрасова и Добролюбова.
Мостовской поднял палец:
— 0! Судя по количеству приборов — у вас званый обед. Напрасно вы мне не сказали, я бы надел свой лучший галстук.
Александра Владимировна всегда испытывала перед Мостовским несвойственное ей чувство робости. И сейчас ей показалось, что Мостовской осуждает её, и она покраснела Печальна и трогательна краска смущения на старческом лице.
— Подчинилась требованиям дочерей и внуков, — сказала Александра Владимировна, — после ленинградской зимы вам это, вероятно, кажется лишним и странным.
— Наоборот, совсем наоборот, далеко не лишним, — сказал он и, сев к столу, принялся набивать самосадом трубку. — Пожалуйста, вы ведь курите, — протянул он ей кисет. — Попробуйте моего.
Мостовской вынул из кармана кремень, пухлый белый шнур и кусок стального напильника.
— «Катюша», — сказал он, — не ладится она у меня. Они переглянулись и улыбнулись друг другу «Катюша» действительно не ладилась, не давала огня.
— Я сейчас принесу спички, — предложила Александра Владимировна, но Мостовской замахал рукой
— Что вы, спички, кто их теперь тратит зря.
— Да, теперь держат спички на случай ночных неожиданностей военного времени.
Ода пошла к шкафу и, вернувшись к столу, с шутливой торжественностью сказала:
— Михаил Сидорович, разрешите вам преподнести от всей души, — и протянула непочатый коробок спичек, Мостовской принял подарок. Они закурили, одновременно затянулись и выпустили дым, он смешался в воздухе, пополз лениво к открытому окну.
— Думаете об отъезде? — опросил Мостовской.
— Как все, но пока ещё никаких разговоров нет.
— А куда думаете, если не военная тайна?
— В Казань, туда эвакуирована часть Академии наук, а муж моей старшей дочери, Людмилы, он профессор, собственно член-корреспондент, получил квартиру, то есть не квартиру-две комнатки, зовет к себе. Но вам-то беспокоиться нечего, за вас подумают.
Мостовской посмотрел на неё и кивнул.
— Неужели их не остановят? — спросила Александра Владимировна, и в голосе её было отчаяние, как-то не вязавшееся с уверенным и даже надменным выражением её красивого лица. Она заговорила медленно, с усилием: — Фашизм действительно так силен? Я не верю этому! Объясните мне, ради бога. Что это? И эта карта на стене, мне иногда хочется её снять, спрятать. Серёжа каждый день переставляет флажки. Как прошлым летом — возникают всё новые направления: Харьковское, потом вдруг Курское, потом Волчанское и Белгородское. Пал Севастополь. Я спрашиваю у военных, выпытываю — что это?
Она помолчала и, движением руки как бы отталкивая страшную для себя мысль, продолжала:
— Я подхожу к книжным полкам, вот о которых вы говорили, где Пушкин, Чернышевский, Толстой, Ленин, беру в руки книги, листаю их, — нет, нет, мы остановим фашистов, конечно, конечно, остановим!
— Что же вам отвечают военные? — спросил Мостовской. В это время из-за двери послышался сердитый и смеющийся молодой женский голос:
— Мама, Маруся, где же вы? Ведь пирог сгорит!
Мостовской сказал:
— О, дело, оказывается, нешуточное, пирог! Александра Владимировна, указав в сторону двери, объяснила;
— Собственно, из-за неё всё и устроили, это моя младшая, Женя, вы её знаете. Неделю назад вдруг приехала. Теперь близкие все разлучаются, а тут такая неожиданная встреча. А тут еще внук, сын Людмилы, проездом на фронт остановился. Вот мы и решили одновременно отметить и встречу и расставание.
— Да, — сказал Мостовской, — жизнь ведь идёт...
Шапошникова тихо произнесла:
— Если бы вы знали, как тяжело, и общее горе я воспринимаю не как молодые, а по-стариковски.
Мостовской погладил её по руке. — Идите, идите, а то и в самом деле пирог сгорит.
— Наступает решающий момент, — сказала Женя, наклоняясь вместе с Александрой Владимировной над полуоткрытой дверцей духовки. Она сбоку глянула на мать и, приблизив губы к её уху, произнесла скороговоркой:
— Я утром получила письмо, помнишь, я тебе рассказывала, давно ещё, до войны... военный, мой знакомый, Новиков, в поезде встретился... Какое удивительное совпадение и тогда и теперь. Представь, сегодня проснулась и именно его вспомнила, подумала: вот уж кого давно нет на свете, а через час письмо.. И та наша встреча в поезде, после моего ухода из Москвы, ведь тоже странное совпадение?
Женя обняла мать за шею и стала целовать её в щёку, в седые волосы, спускавшиеся на виски.
Когда Женя училась в Художественном институте, ей как-то пришлось быть на торжественном вечере в Военной академии. Там она познакомилась с высоким, медленно и тяжело ступавшим военным, старшиной курса. Он проводил её до трамвая, затем несколько раз был у неё дома. Весной он кончил академию, уехал, написал ей два или три письма, и в этих письмах он не объяснялся в чувствах, однако просил прислать фотографию. Она послала ему маленькую карточку, снятую в пятиминутке для паспорта. Потом он перестал писать ей, она уже к этому времени кончила Художественный институт, вышла замуж.
Когда она после разрыва с мужем ехала к матери, в Воронеже в её купе вошёл плечистый светловолосый военный.
— Вы не узнаёте меня? — спросил он, протягивая ей большую белую руку.
— Товарищ Новиков, — сказала она, — конечно, я вас узнала. Почему вы тогда перестали мне писать?
Он усмехнулся и, молча вынув маленькую, вложенную в конвертик фотографию, показал ей.
Это был снимок, посланный ему когда-то.
— Я вас узнал, когда ваше лицо мелькнуло в окне, — сказал он.
Соседи по купе, две пожилые врачихи, прислушивались к каждому их слову. Эта встреча была для них развлечением. Разговор шёл общий, одна врачиха, с футляром от очков, торчавшим из карманчика жакетки, говорила без умолку, вспоминала все неожиданные встречи, бывшие в её жизни, в жизни её родных и знакомых. Женя была благодарна болтливой докторше — Новиков, видимо, ждал сердечного, важного разговора, считал, что встреча эта не случайная, а Жене хотелось лишь одного — молчать.
Он сошёл в Лисках, обещав написать ей в Сталинград, но не написал. И вот от этого Новикова, которого она считала убитым, вдруг пришло письмо, напомнившее Жене её тогдашние «предвоенные» мысли и чувства, казалось навсегда ушедшие.
Александра Владимировна, глядя на дочь, хлопотавшую у плиты, подумала, что к белой шее Жени очень идёт эта тоненькая золотая цепочка, а тёмные волосы отливают золотом оттого, что она удачно подобрала гребень. Но и цепочка на шее, и гребень в волосах были хороши лишь оттого, что живая красота молодой женщины коснулась их. Александре Владимировне казалось, что тепло идёт не от раскрасневшихся щёк дочери, её белых рук и полураскрытых губ, а откуда-то из глубины её ярких карих глаз, таких повзрослевших и гак много видевших, и таких неизменно детских, какими были они двадцать лет назад.
За стол уселись к пяти часам. Для почётного гостя поставили плетёное кресло, но Мостовской отказался от почёта и сел рядом с Верой на табуретке; слева от него сидел молодой светлоглазый военный с двумя вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Фёдоровича.
— Вы, Степан, должны сидеть здесь, как глава семью, — смазала Александра Владимировна.
— Папа — главный источник света, тепла и соленых помидоров, — сказала Вера.
— Дядя — начальник семейного ремонтного треста, — добавил Серёжа.
Действительно, Степан Фёдорович заготовил тёще на зиму солёные помидоры и обеспечил её топливом. Он умел всё чинить: электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножки стульев.
Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом, румяными щеками Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестёр и братьев.
Степан Фёдорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошёл простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного. Но именно в том, что путь этот стал незаметен, и заключалась его потрясающая человечество новизна.
Степан Фёдорович, главный инженер, а затем управляющий Сталгрэса, тридцать лет назад пас коз за фабричным посёлком под Наро-Фоминском. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг, прямо к Сталинграду, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделённый смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике упоминалась его фамилия. Он был руководителем большой ГРЭС, кое-кто считал его слабым администратором — заберется в цех и сидит там целый день, а в это время секретарь отбивается от телефонных звонков. Однажды он сам просил, чтобы его перевели с административной работы, но в глубине души обрадовался, когда нарком не внял его ходатайству Степан Фёдорович и в административной работе находил много интересного и приятного для себя Ему нравилось напряжение директорской работы, он не боялся ответственности. Рабочие относились к нему хорошо, хотя он бывал шумлив, а иногда и крут. Он любил выпить под хорошую закуску, любил ходить в ресторан и обычно тайно от жены хранил сотни две три рублей, он их называл «подкожные» Но он был хорошим семьянином, очень любил жену, гордился ее ученостью и был готов на любой труд ради своей Маруси, дочери и всех близких.