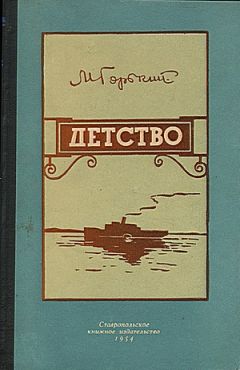— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.
— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел — взачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошёл до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям.
Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.
Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:
— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эх-ма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в это многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, — показал хозяину разум свой!..
Говорил он и — быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу…
Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:
— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим, бывалоче костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!
Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:
— Не уходи!
Он, усмехаясь, отмахивался от людей:
— Погодите там…
Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.
Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.
— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!
Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:
— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…
Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.
Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно просто ответил:
— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне…
Потом он учил меня, тихонько, часто оглядываясь на дверь:
— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!
Я спросил:
— Разве еще сечь будут?
— А как же? — спокойно сказал Цыганенок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть…
— За что?
— Уж дедушка сыщет…
И снова озабоченно стал учить:
— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну тут лежи спокойно, мягко, а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе тянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!
Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:
— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей! Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.
Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмурясь и покачивая головою:
— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!
Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьёт их в «штуку», а дедушка ругает его за это.
Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.
Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.
Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:
— Бесстыжие рожи, злыдни!
Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.
Я спросил бабушку, отчего это.
Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:
— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то невыгодно будет, понял?
Она тихонько засмеялась:
— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!
Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.
Я узнал от неё, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.
— Лежит, в запон обёрнут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, закоченел уж.
— А зачем подкидывают детей?
— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.