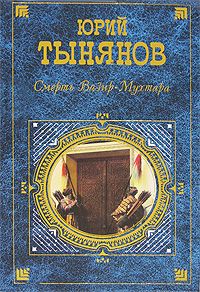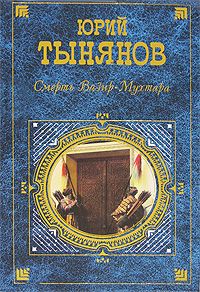И эта легкость, эта зыбкость встревожила Грибоедова.
Мальцов спал в палатке. Доктор хлопотал над чемоданом и сразу же попросил Грибоедова отпустить его: на десятой версте открылась чумная эпидемия, не хватало врачей. Доктор Мартиненго получил донесение.
Полковой квартирмейстер Херсонского полка, которым командовал начальник траншей полковник Иван Григорьевич Бурцов, был добряк.
Он любил своего арабского жеребца, как, верно, никогда не любил ни одной сговорчивой девы.
Кучером и конюхом у него поэтому был молодой цыган, который лучше понимал конский язык, чем русский. Жеребец ржал, цыган ржал, квартирмейстер посапывал сизым носом, глядя на них.
Цыган купал жеребца, и их тела в воде мало отличались по цвету: оба блестели, как мазью мазанные солнцем.
Конь храпел тихо и музыкально и, подняв кверху синие ноздри, плыл, цыган горланил носом и глоткой.
И у квартирмейстера ходил живот, когда он на них глядел.
Полк стоял лагерем в селении Джала. Офицеры жили в домах, лагерь был разбит за селением.
Когда в двух верстах от стоянки, за рекой, появился оборванный, кричащий цветом и сверкающий гортанью цыганский табор, когда стали заходить в полк цыганки с танцующими бедрами и тысячелетним изяществом лохмотьев, цыган стал пропадать. Он уходил купать коня, переплывал на другой берег и исчезал.
Квартирмейстер говорил:
— Пусть погуляет на травке.
Цыган гулял на травке, и под ним гуляли бледные бедра цыганского терпкого цвета. Однажды утром квартирмейстер не мог докричаться цыгана.
— Загулял, собака, — сказал он и пошел проведать своего жеребца.
Цыган лежал в конюшне, синий, с выкаченными глазами. Он пошевелил рукой и застонал. Конь тихо бил ногой и мерно жевал овес. Квартирмейстер выскочил из конюшни и зачем-то запер ее.
Он сразу вспотел.
Потом, осторожно ступая, он разыскал денщика, велел нести веревки, отпер конюшню и приказал посадить цыгана на жеребца. Цыган мотался и мычал.
Денщик прикрутил его веревками к коню. Квартирмейстер, посапывая, вывел коня из конюшни и, все так же осторожно ступая, повел к реке. Он пустил его в воду.
Конь поплыл, похрапывая, а цыган мотался головой. Квартирмейстер стоял, согнувшись, и смотрел пустыми глазами. Конь переплыл реку и, тихонько пощипывая траву, стал уходить к табору, а цыган танцевал на нем каждым членом.
Когда он ушел из глаз, квартирмейстер вдруг заплакал и тихонько сказал:
— Конь какой. Пропало. Нужно гнать чуму.
Он пришел к себе, заперся и стал пить водку.
Назавтра квартирмейстер вышел и увидел, что денщик лежит, разметавшись, выкатив глаза и ничего не понимая. Он отправил его в карантин.
Он дождался ночи. Ночью запихал в карманы по бутылке водки, вышел из дому, запер за собой дверь и ушел.
Он побродил, потом, постояв, толкнул какую-то дверь и вошел. На постели лежал незнакомый офицер и спал. Он не проснулся. Квартирмейстер скинул сюртук, снял рубашку, лег на пол посредине комнаты, вынул из кармана штоф кизлярки и стал молчаливо сосать. В промежутках он покуривал трубку.
Вскоре офицер проснулся. Увидев лежащего на полу незнакомого полуголого офицера, пьющего из бутылки водку, он подумал, что это ему снится, повернулся на другой бок и захрапел.
Квартирмейстер выпил штоф и на рассвете ушел, так и не принятый офицером за живое существо. Он накинул на себя сюртук, а рубашку забыл на полу.
Он скрылся, и больше его никто не видел ни в реальном, ни в каком другом виде.
Офицер, проснувшись и увидев пустой штоф и рубашку на полу, ничего не понимал.
Он был здоров и остался здоровым.
Прачка, жена музыканта, занимавшаяся стиркой для прокорма трех маленьких детей, жила с ним в землянке, тут же, в селении.
Девочка в это утро пришла к офицеру за бельем. Она подняла с полу рубашку. Офицер сказал, что она может взять ее себе. Вернувшись домой, в землянку, она заболела. Командир полка отдал приказ взять ее отца и мать в карантин, а девочку в гошпиталь.
Троих маленьких детей оставили в землянке, потому что карантин был переполнен. Карантинные балаганы, прикрытые соломой, кишели людьми, и там спали вповалку.
У землянки поставили часового. Селение опустело. Арбы заскрипели в разные стороны. Лохмотья, ведра, кувшины, пестрые одеяла, а среди них сидели злые и испуганные женщины и крикливые дети. Мужья молчаливо шагали рядом, и, высунув языки, терпеливо шли сзади собаки.
Темною ночью мать заболела в карантине. Она чувствовала жар, который плавил ее голову и нес ее тело.
Она как тень пробралась из карантина и как тень прошла сквозь цепь. Ночь была черная. Она шла вслепую, быстро и не останавливаясь, шла версту и две, как будто ветер гнал ее. Если бы она остановилась, она упала бы.
В голове у нее было темно и гудело, она ничего не понимала и не видела, но она прошла к землянке, к детям, перевалилась через порог и умерла.
Часовой смотрел, разинув рот, в окошко и видел труп матери и совершенно голых детей, которые молча жались в углу. Сойти с места и дать знать дежурному офицеру он не имел права. Дети выбежали наконец из землянки и с криками, уцепившись за часового, тряслись. Когда на рассвете пришли сменить часового, вызвали офицера. Он велел часовому, не прикасаясь ни к чему руками, шестом достать из землянки одеяло и прикрыть голых детей, которые тряслись, кричали и стучали зубами. Часовой так и сделал.
Сменясь с караула, он в ту же ночь, в палатке, заболел. К рассвету заболела вся палатка.
Так в войско графа Паскевича пробралась чума.
— Сашка, друг мой, скажи мне, пожалуйста, отчего ты такой нечесаный, немытый?
— Я такой же, как все, Александр Сергеевич.
— Может быть, тебе война не нравится?
— Ничего хорошего в ней, в войне, и нету.
Молчание.
— И очень просто, что всех турок или там персиян тоже не перебьешь.
— Это ты сам надумал, Александр Дмитриевич? А отчего ты так блестишь? И чем от тебя пахнет?
— Я намазавшись деревянным маслом.
— Это зачем же?
— В той мысли, чтоб не заболеть чумой. Выпросил у доктора полпорциона.
— А доктор тоже намазался?
— Они намазали свою рубашку и вымылись уксусом четырех разбойников. Если вам желательно, могу достать.
— Достань, пожалуй.
— Потом курили трубку и кислоту. Сели с другим немцем на коней и поехали.
— Что же ты с ними не поехал?
— Их такое занятие. Я этого не могу.
— А так небось поехал бы?
— У меня статское занятие, Александр Сергеевич, у них чумное.
— А что ж ты на вылазку с Иван Сергеичем не поехал? Он ведь статский, а напросился на вылазку.
— Господину Мальцову все это в новость. Они храбрые. Они стараются для форсы. А я должен оставаться при вас. Мало я пороху нюхал?
— Как так для форсы?
— Никакого интереса нет свой лоб под пули ставить. Да вы разве пустите. Смех один.
Молчание.
— Ты, пожалуйста, не воображай, что я тебя, такого голубчика, в Персию повезу. Я тебя в Москву отошлю.
— Зачем же, ваше превосходительство, вы меня сюда взяли?
Молчание.
— Сашка, что бы ты делал, если б получил вольную?
— Я б знал, что делать.
— Ну, а что именно?
— Я музыкантом бы стал.
— Но ведь ты играть не умеешь.
— Это не великое дело, можно выучиться.
— Ты думаешь, это так легко?
— Я бы, например, оженился бы на вдове, на лавошнице, и обучался бы музыке и пению.
— Какая ж это лавошница-вдова тебя взяла бы?
— С этой нацией можно обращаться. Они любят хорошее обхождение. Тоже говорить много не надо, а больше молчать. Это на них страх наводит. Они бы в лавке сидели, а я б дома играл бы.
— Ничего бы и не вышло.
— Там видно было бы.
Молчание.
— Надоело мне пение твое. Только я тебя теперь не отпущу. Поедем в Персию на два месяца.
Молчание.
— Тут, Александр Сергеевич, с час назад, как вы спали, приходили за вами от графа.
— Что ж ты мне раньше не сказал?
— Вы разговаривали-с. Адъютант приходил и велел прибыть на совещание.
— Ах ты, черт тебя возьми, дурень ты, дурень мазаный. Одеваться.
Паскевич сидел за картой. Начальник штаба Сакен был рыжий немец с бледно-голубыми глазами.
Петербургский гость Бутурлин, молодой «фазан», худой, как щепочка, молчал.
Доктор Мартиненго был худощав, стар, с хищным горбом, окостеневшим лицом, седыми, жесткими волосиками и фабренными, шершавыми усиками. Огромный кадык играл на его высохшей шее.
Ему бы кортик за пояс, и был бы он простым венецианским пиратом.
Полковник Эспехо был плешив, желт, с двумя подбородками, черные усы и неподвижные, грустные глаза были у полковника. Корнет Абрамович стоял с видом готовности. Бурцов смотрел на Паскевича.
— Совершенно согласен и подчиняюсь, граф, — сказал он.
— Вот, — сказал Паскевич. — Немедля выступить и идтить на соединение. Больных и сумнительных — в карантин. Доктору Мартыненге озаботиться о лазаретках. Идтить форсированным маршем.