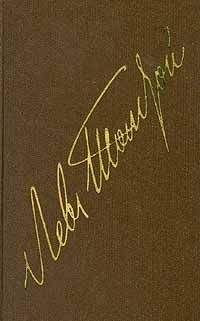— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — послышался голос советчика, — постой на час!
— Чаво?
— Посто-о-о-ой!
Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.
— Ну что?
— Да что! куда ехать-то?
— А кто е знает!
— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?
— Вовсе зашлись.
— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.
— Ладно. Подержи лошадей… на.
И Игнат побежал по указанному направлению.
— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик, — вишь, как лошадей упарил!
Все время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.
— Ну что, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колено в снегу.
— Есть-то есть, кочевье видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат, — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левей брать.
— И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.
— Да говорю, что нет!
— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правей забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.
— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.
— Э, брат! а еще ямщик!
— То-то ямщик! ты сходи сам.
— Что мне ходить! я так знаю.
Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.
— Вишь, как зашлись ноги: ажио не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенище.
Мне ужасно хотелось спать.
«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».
Я забываюсь на секунду.
«Чем же, однако, все это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство. — Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун, — кричит он, — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник… и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подька посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше…
Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.
Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.
Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.
Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи па передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.
— Что это ты делаешь? — спросил я.
— Переобуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.
Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.