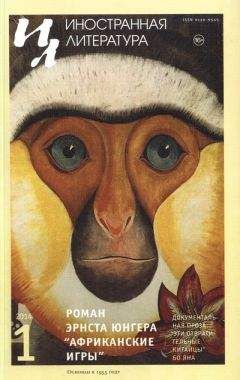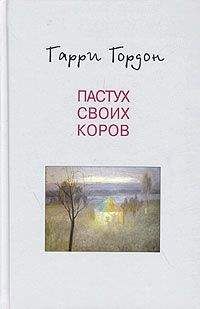она схватит чайник да с балкона террасы ему воды за шиворот нальет.
Дознаватель решил, что супруги эти — сокровище, таких днем с огнем не сыщешь. Он оставил сослуживца следить, как Чжан Цзянь и Сяохуань будут себя вести в кабинете, подслушивать их разговор. Но те ни о чем не говорили, даже сидели так же, как он их оставил: муж в плетеном кресле у окна, жена — на деревянном стуле, приставленном к стене напротив; молчат и смотрят друг другу в глаза.
Откуда им было знать, что эти двое, сидя в семи шагах друг от друга, не шевелясь, не говоря ни слова, уже все друг другу сказали. Тогда, много лет назад, Дохэ не ошиблась: Чжан Цзянь и Сяохуань правда были одним человеком. Сидя напротив жены, Чжан Цзянь чувствовал, что смотрит на вторую половину себя, на ту половину, которой не завладела и никогда не завладеет Дохэ.
Нос у Сяохуань покраснел. Чжан Цзянь видел, что жена запрокинула голову и уставилась в потолок. Сяохуань не хотела давать волю слезам: если Чжан Цзянь заметит — ничего, а перед посторонними ей плакать нельзя. В дверных щелях, в трещинах на стене — всюду прячутся чужие, просто их не видно. Лучше всего Сяохуань плакалось рядом с Чжан Цзянем: женщина льет слезы только перед тем, кого ее слезы тронут. Много лет назад этот мужчина сказал: «Спасайте мать», и его слова привили ей дурную привычку — плакать у него на плече.
Тот, прежний Чжан Эрхай откинул тканый полог, которым завесили дверной проем, вошел и замер у порога. Она уже поняла, как много для него значит, и знала, что может пользоваться своей властью. С того дня она временами даже помыкала немного Эрхаем, догадываясь, что ничего ей за это не будет. Когда-то полог, висевший на притолоке вместо двери, был простыней, мать Сяохуань сама соткала ее и отдала в мастерскую набить белые цветы сливы по синему фону, а потом эта простыня со всем приданым Сяохуань попала в дом Чжанов. За пологом остался такой же, как обычно, вечер: слышалось, как матери зовут детей ужинать, как кудахчут куры, которых гонят в курятник, как сморкается мать Эрхая и сухо кашляет его отец. Двадцатилетний Эрхай стоял у полога в белой, застиранной до желтизны куртке гуацзы, на животе, груди и рукавах куртки осталась кровь Сяохуань и сына, которого убили, не успел он родиться. Как он погиб? Лучше ей не знать. Кровь высохла, превратившись в бурые следы преступления. Молодой отец долго стоял у сине-белого полога, его верблюжьи глаза блуждали по комнате, пробегая мимо жены, которую можно было спасти лишь через убийство сына. Он не просто погубил свое дитя, он пошел наперекор воле родителей, взвалил на себя дурную славу неблагодарного, непочтительного сына, пресекшего род. Слезы Сяохуань неслись бурным потоком, словно горные ручьи в начале весны; теперь у нее остался только он, а у него — она. Лишившись сына, они всех восстановили против себя, и причастных людей, и случайных. Сколько же у нее было слез, она и не знала, что плач так облегчает душу. Заплаканным глазам Эрхай казался еще выше и больше, он словно разбух от ее слез. Свет двух керосиновых ламп играл в ее глазах, из-за слез и света все предметы казались перевернутыми, и он прошел к ней сквозь лучи опрокинутой лампы. Протянул огромную ладонь, не то слезы сначала смахнул, не то пот. Она схватила его ладонь и прижала к губам, ладонь была соленая, каждая линия промочена потом. Сколько так просидели — бог весть, но у нее остались силы рыдать. Пронзительно крича, она оплакивала своего сына. Рыдала так, рыдала и заблудилась в своих мыслях: «Дурак! Зачем меня спас?! Да разве дадут мне жизни твои родители? И люди, что моют косточки да судачат за спиной. — дадут?!» Напуганный плачем двадцатилетний Эрхай неуклюже сгреб ее в объятья. И скоро Сяохуань поняла, что он тоже рыдает, только беззвучно.
Сейчас напротив нее сидел уже не Чжан Эрхай, и нос у Сяохуань так забился, что кружилась голова. Того Чжан Эрхая больше нет, он превратился в Чжан Цзяня, и одного этого довольно, чтобы снова зайтись поминальным плачем. Но Сяохуань ни за что не расплачется, не даст чужим увидеть ее слезы. А слезы рвались наружу, потому что Чжан Цзянь провел между ними черту и сделал ее чужой.
Взгляд Чжан Цзяня становился все тяжелее, он не выдержал и опустил глаза на ботинки с развязанными шнурками. Медленно перебрался на пуговицу, продетую не в ту петлю. Только рядом с Сяохуань он чувствовал себя негодяем. Поднял глаза.
Он знал, что виноват. Обидел ее.
Перед остальными ему не в чем было оправдываться. Если заставят признать вину — кто угодно, — он лучше умрет. Но перед Сяохуань он был виноват.
Сяохуань никогда бы не подумала, что он докатится до такого: забудет про приличия, выставит себя на посмешище, растеряет всякий стыд. Неужели она мало его любила, неужели ему не хватало ее страсти? Путались за ее спиной, скрывались, словно она чужая. Сколько же они прятались?
…Немало. Два с лишним года.
Как будто она стала бы им мешать! Да разве не она, Чжу Сяохуань, убедила его помириться с Дохэ, не она растолковала ему: все женщины одинаковы, все набивают себе цену? Да была ли нужда обманывать? Кто раз за разом оставлял их вдвоем, разве не Чжу Сяохуань?
Но это другое. Оставлять вдвоем — это другое.
Почему другое? Какое — другое?
В сердце другое. В сердце… Как тут скажешь?
Значит, сердце остыло.
Нет! Не так все просто! Что за штука это сердце, сам иной раз не знаешь.
Так и есть, сердце остыло.
Это несправедливо!
Когда же оно остыло?
Чжан Цзянь смотрел на Сяохуань растерянно и испуганно: остыло?
В глазах мужа Сяохуань прочла вопрос, которым он терзал себя: сердце остыло? Верно ли?
Иначе разве вышло бы у него так с Дохэ… Что ни взглянуть нельзя, ни прикоснуться. Что дотронулся — и все тело пылает. Ведь раньше сколько раз ее касался! Все началось с той встречи на свободном рынке два года назад? Нет. Еще раньше. Сяохуань рассказала ему о том, что выпало на долю Дохэ, а на другой день он увидел, как в маленькой комнате Дохэ латает детское одеялко, и вдруг почувствовал какую-то бессмысленную нежность. Она сидела на кровати спиной к нему, поджав ноги, в домашней рубашке с круглой горловиной. Пуговка