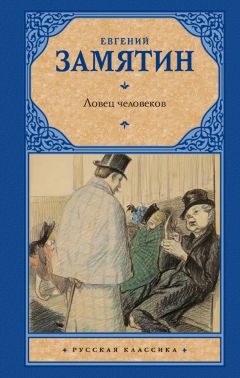Нет. Пошла с ружьем:
– Там я следы видала, может – и промыслю что…
Развивается, свивается, колышется синий сполох. В синей пещере на дне – чуть виден тонконогий рыжий олень. Шею ему обхватили горячие руки, горячие губы целуют, целуют – кругом всю заиндевевшую морду.
И Бог весть, как это случилось – должно быть, курок зацепился за рукав – ружье нечаянно выстрелило прямо в оленя, олень упал.
Марей выскочил под сарай – уж и дергаться перестал олень. Ну, что ты будешь делать – стрясется же этакое!
Вечером пляшет огонь в печи, на сковороде свиристит кусок оленины.
– Давай, Марей, запремся – и чтоб никто, ни один человек…
– Ой, и верно, запереться! А то, правда, мешают – беда. А уж мне немного осталось. Ты знаешь: уж скоро… Да погоди, погоди же – куда ж ты?
В черном небе – все шире заря малиновой лентой. На дне синих ледяных пещер – алые огни, торопливая работа идет на дне – куют солнце. Розовеет снег, уходит вглубь мертвая синева, может быть, немного еще – и улыбнутся розовые губы, медленно поднимутся ресницы – и засияет лето…
Нет, не будет лета. Пелькины губы крепко сжаты, брови сурово столкнулись.
– Марей! Может, и ты пойдешь? Или, может, хочешь – я останусь? Ну, хочешь, не пойду?
Кортома вернулся из Норвегии, у Кортомы – вечеринка, как и всякий год.
– Нет уж, одна иди. Уж я лучше поработаю…
Пелька долго сидит на лавке – той самой – руки в коленях. Долго ходит по избе. Один раз что-то хрустнуло – может быть, впрочем, это хворостинка попала под ноги. Сняла платье с гвоздя, стала одеваться.
Было это – то самое зеленое платье. Кортома не забыл – привез. Вчера утром пришел со свертком Иван Скитский, сверток перевязан зеленой лентой.
– Это тебе от хозяина. Беспременно чтоб на вечеринку приходила. А насчет платья, сказал: твоя воля. Хочешь – наденешь, не хочешь – нет, это уже ты сама…
А из норки – из плечей – голова так и выныривает, глаза так и скачут – как неключимая сила, и поглаживает сверток ласковенько, и погладил бы Иван Скитский Пельку, погладил бы Марея: весело!
Пелька – в зеленом платье. В рыжих перепутанных волосах – сухой зеленый венок. Губы – сухие, сжаты так – еще немножко, и кровь брызнет; и все-таки губы дрожат.
– Марей!
– Что? Ага, оделась? Ой, и красива же ты, Пелька! Ну, ты чего же?
– Нет, я так. Так я иду.
– Эх, жалко, работа… Кабы не работа – я бы тоже – пожалуй… Да надо кончать, вот.
– Да, надо кончать.
У Кортомы вечеринка, как и всякий год. Хозяйка – нарядная, в розовом платье, в улыбке. Хозяин – в праздничном обряде: новые сапоги высокие – выше колен, синий вязаный тельник – и сверху фрак.
Хозяин нетерпеливо вытаскивает часы из заднего кармана фрака: на часы – на дверь – опять на часы.
– Да ты все ли ей сказал, как велел я? – сердито шепчет на ухо приказчику Ивану Скитскому.
– Да, Господи – да неуж я?..
И наконец: через дверь – морозное облако пара, и в белом облаке – зеленое платье.
Засияла широкоскулая медь, чавкнула, сплюснула мир: мой!
– Мое? Зеленое? Да умница же ты какая! Я ведь знал: ты умница, – только так ведь… Ох, хитрая!
И пусть он ведет обнявши, и пусть все видят – пусть…
– Ну что же, гостёчки, за стол? Все теперь в сборе?
На столе – свежина, калитки с пшеном, овыдники, заспенники, пироженники, белые головки, зеленые, красные. Хозяин засучил рукава фрака, чтоб ловчее было, налил и произнес тост, – согласно западноевропейским народам:
– Ну, ребята, за вас и за все ваше отродье!
И заработали гамкалы. Дым от трубок, морозный пар от неплотно припертой двери. В тумане – одни рты: чавкают, уминают; похрустывают на зубах кости. Рядом с хозяином, по правую руку – Пелька. Напротив, через стол, хозяйка – весело улыбается, не сводит глаз с зеленого платья, громадными глазами вбирает, всасывает всю ее: рыжие волосы, крепко сцепленные брови, стиснутые губы.
– Нет, материя-то какова – материю я тебе выбрал: чистый шелк! – Кортома поглаживает зеленую материю тут, там.
– Еще вина мне, еще лей!
– Ты умница, я знал – ты умница, больше так ведь…
Краснеют лица, подымается снизу темная земляная кровь. Подмигивают Пельке, подмигивают хозяину: ну и ходок! Женкам мешают пуговицы – расстегивают одну, другую, третью. По двое выходят освежаться за дверь.
– Ну что же, гостёчки, набузгались, а? Ну – плясать! Живо!
Пропал стол, стулья. Пустая середина. Из норки выскочил Иван Скитский – бубен в руках:
– Тим-та-а-ам! Тим-та-а-ам!
– И-эх! – вдруг выхватила бубен рыжая и пошла кругом. Глаза закрыла: белое бессонное солнце – белая ночь на лугу – белые дымные столбы от костров…
– И-ах! – еще отчаянней – до смерти закружиться, выкружить все из себя: ничего не было…
Грохают грубые сапоги об пол, по ветру бороды, фалды фрака… эх, гони – сто верст в час!
– А ты что же? – на лету крикнул Кортома хозяйке. – Сидишь одна: гага на яйцах!
Хозяйка медленно встала. Веселая улыбка между двух морщинок по углам губ. Замелькало в кругу ее розовое платье, завеяло – качнулось…
– Стой-стой-стой! Упала… да стой же!
Розовое платье опускалось на пол, таяло – и вот сейчас на полу будет только розовый комочек… Кортома подхватил, увел в соседнюю комнату:
– И вечно что-нибудь этакое! Уж не может! Ну чего – ну?
– Голубчик мой – это я так… Уморилась нынче очень – я сейчас… Ну, вот и ничего.
– Ты бы вот лучше наверх пошла: все ли там, как я велел – в конторе?
– Все как велел. Ты ничего, голубчик, иди в зал. Я сейчас…
Все уладилось. Хозяйка пришла, с веселой улыбкой наливает гостям шипучее. Хозяин под шумок куда-то пропал. Сквозь неплотно прикрытую дверь морозный пар. В розовом платье немного холодно – вздрагиваешь. Но это ничего – кто-нибудь войдет, прихлопнет поплотнее – и всё.
И наконец вошел хозяин, прихлопнул дверь. Должно быть, освежался: в горнице гвалт, дым как в бане-паруше. И не одному Кортоме невмоготу было: следом за ним раскрылась дверь, и вернулась рыжая в своем прекрасном зеленом платье.
Откуда-то из печки, как святочный бес-шиликун, вышарахнул приказчик Иван Скитский:
– С праздничком, хозяин! С праздничком, красавица! Магарыч с вашей милости!
Теперь Кортома где-то в стороне мирно попыхивает трубочкой, учительно поднят указательный палец. Возле Пельки приказчик Иван Скитский, вертится, щерит беззубые черные десны. Вытянул руку рожками – кызя-кызя! – защекотал козой бок Пельке, защекотал под грудью. Ну, что же: все равно.
– А я завтра все расскажу му-жу! А я завтра… шу-у… му-ужу… – шуршит шиликун в ухо.
И вдруг – будто этого только и надо Пельке: вдруг – губы у нее живые, на щеках румянец.
– Что ж, расскажи. Испугал!
Ла-адно! А у самой небось душа в пятки.
– Да уж так и быть: не скажу. Пойдешь со мной прогуляться?
– С тобой? Эй, хозяин! Скажи-ка этому, твоему, чтоб отзынул. Эй, хозяин, вина!
Изо всей мочи по небу кнутом – и кровавеет рубец: заря. Но ни звука, ни оха: все равно никто не услышит.
Всё еще во вчерашнем зеленом платье – Пелька у окна, молча, ни звука. Марей – далеко, чуть виден в светлом кругу под жестяной лампочкой. Торопится, потукивает молоточком – тукает, поет, несется сердце: завтра фонарь, завтра – вся жизнь новая…
– Ну что же, Пелька, как там вчера? – и уж забыл Марей, что спрашивал о чем-то, и ничего ему на свете, только – фонарь.
Все ярче рубец от кнута в небе. В плечах, в коленях – дрожь все горячее: пожалуй, вчера выбегала – остудилась, очень возможно.
– Эй, Марюха, оглох, что ли? Здравствуй, говорю. От хозяина моего – поклон со спасибом.
– Ага, Иван, здравствуй.
– Ну, а ты, красавица, как? Все на вчерашнем стоишь?
– На вчерашнем.
– Так-так-так… Ну что же, Марей, фонарь-то свой кончил?
– Кой-где пошабрить только – и завтра… Вот, ей-Богу, ничего мне на свете не надо, только бы завтра…
– Да уж я вижу: ничего не надо. Женку-то вот свою профонарил? Тю-тю, хезнула женка.
– Да нет – вон она у окошка.
– Эка, брат: это не твоя.
– Ох, чудак, ну тебя… Чья же – коли не моя?
У Ивана Скитского руки за спиной и пальцы вон этак вот, рожками – кызя-кызя – Пельке показывает. Молчит Пелька.
– Чья? А хозяина мово, господина Кортомы, со вчерашнего считается. Со ште-емпелем… Изо всей мочи кнутом… Ну, еще, ну?
– …Платье-то этакое – задарма думаешь? Эх, слепая макура!
Бросил шабрить Марей. Голова – белая, глаза изумленные, синие не макура – Степка, зуёк.
– Верно, Пелька?
– Верно.
Кровавеет рубец – сейчас брызнет. Сейчас кинется, вдарит, убьет. Милый, убей!
Синие, как у Степки, глаза – на Ивана, на Пельку, опять на Ивана. Иван щерится, у Пельки губы дрожат: может быть, сейчас улыбнется.
– А-а, ну вас: нашли время! Уж ты, Иван, шут известный: луканька хвостом. Ну тебя, недосуг, кончить надо к завтрему…
Неключимой силе не переступить светлого круга: прочны, прочнее камня светлые стены. Плюнул Иван Скитский, повернулся к двери.