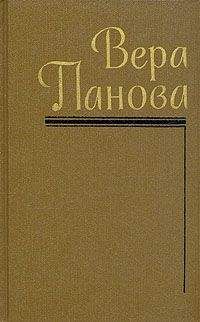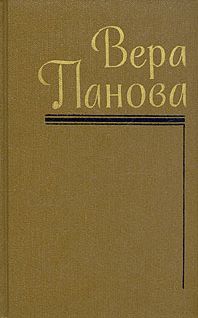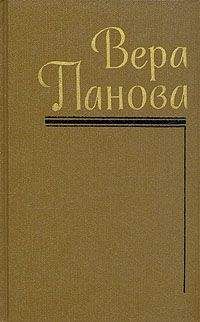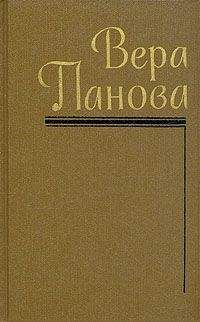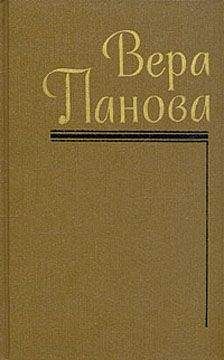Потом пригляделись очи к черноте, на черном небе различила движущиеся черные горы клади и черные фигуры людей, сидящих на клади, безмолвно куда-то едущих. Воз за возом, воз за возом... Когда разрывалась их вереница, было видно, как по ту сторону широкой улицы попыхивают папиросные огоньки: там тоже стояли за тынами, курили, смотрели.
- И такая у меня была тоска, мов то судьба моя черная ехала.
Так одни стояли всю ночь, не вправе выйти и спросить ни о чем, а другие ехали всю ночь, не вправе ни вернуться, ни остановиться, ни возвестить о своей беде.
Кто его знает, как секреты известны становятся, - когда проехали возы и стало развидняться, в каждой хате уже знали твердо, что это Сумскую область погнали немцы, отступая, с собой в Неметчину.
Увидели люди, что ничего им с легкостью не будет. Стали закапывать имущество в землю и обсуждать между собой, где лучше сховаться, в лесу или в кукурузе, она еще стояла неубранная, - чтоб их не угнали.
Но были робкие и смирные, боявшиеся поступать по своей воле, крикнули на них, они посидали на возы и поехали, плача.
И эта женщина поехала с двенадцатилетней дочкой. Дочка была рожденная поздно, между молодостью и старостью, от короткого печального супружества, единственная, голубочка.
Немного их выехало из села. Большая часть ушла в лес или в кукурузу. А пустое село немцы подожгли.
Соломенные крыши пылали красно, жарко... Ехали робкие и, оглядываясь, видели, как вся их жизнь за ними сгорает огнем.
Многие из них в дороге ожесточились и осмелели и побежали обратно на свои пепелища, пользуясь тем, что у немцев в отступлении началась сумятица и хваленой ихней организованности пришел капут.
А женщина с двенадцатилетней дочкой так и не переборола свою робость и продолжала ехать.
С воза пересадили ее на грузовик, с грузовика - в железнодорожный вагон. Из страны в страну ехала, попадала и под бомбежки, и в крушения, но из всего вышла невредимой.
В каждой стране были нужны ее терпеливые сильные руки, и она этими руками работала.
В Германии развалины прибирала.
Во Франции развалины прибирала.
Опять ехала, на пароходе, долго, по громадным, ужасным волнам. В Америку приехала.
Из страны в страну. Только домой вернуться не смела. В газетах писали здешних - советская власть страшно на нее сердится за отъезд; как вернется - в тот же час в тюрьму вместе с дочкой.
После узналось - брехали газеты. Да узналось поздно: дочка замужем за американцем, двое детей, третий будет, - бросить их?..
- Бросила бы. Бо немае мени тут життя. Чужое оно все, на что б ни подивилась!
- О боже, рождество скоро и Новый год, а снега и не было... Санта-Клаусы по улицам ходят в червонных колпаках... Елки из нейлона зроблены... У нас хлопцы и дивчата колядовать пойдут... Знаете, как колядуют?
Как же: чуть, бывало, начнет смеркаться, уж слышно - хрустит снег под окнами, стучится маленькая озябшая рука, просят голоса:
- Пустить колядовать!
Коляд, коляд, колядница,
Добра з медом паляница,
А без меда не така,
Дайте, дядько, пьятака!
И давали ребятам - кто пирогов, кто кусок колбасы, кто сала. А не пустит хозяйка в дом и гостинцев не вынесет - ей в отместку поют под дверью:
У дядьки-дядька
Дядина гладка,
Не хоче вставать,
Колядки давать!
И с счастливым звоном улепетывают по визжащему серебряному снегу...
Сейчас, возможно, вывелись колядки, не знаю. Как вывелись многие другие обычаи, христианские и языческие. Как старинная одежда вывелась. Много перемен в наших селах, что украинских, что русских. Но пусть в памяти старой женщины живет все до капли, что ей дорого.
- А в богатый сочельник мы варили борщ, и чтоб он не был вдовец готовили ще жареную рыбу, або кисель добрый из вишен, из слив... А на рождество бывала у нас свинина с капустой и холодец свиной, и коржики сдобные, и пироги с маком... А когда я молодая была, всегда мы, дивчата, под Новый год гадали: бросали за ворота сапог або валенок, клали гребешок под подушку, бумагу жгли на сковородци и на тень дивились... А тут хиба рождество, хиба тут Новый год!
Это не очень справедливо: зимние праздники празднуются в США многошумно, капитально. Мы прилетели в средине ноября, до рождества оставалось почти полтора месяца, но подготовка к нему уже началась. Через месяц она достигла высшей своей точки. Мне понравились иллюминированные деревья на чикагских улицах: обнаженные осенние деревья были унизаны тысячами маленьких, неярких электрических огней и в бледных нимбах шеренгами убегали в даль улиц. Но не деревьям принадлежит главная роль в этих делах.
Главная роль принадлежит магазинам. Рождество в США - триумф галантерейной, игрушечной и всякой иной дребедени, стандарта, хлама, грошового блеска, живущего один день. Ни в какой другой сезон так не нажиться на хламе, потому что традиция велит американцам делать на рождество подарки. Все дарят всем. Члены семьи преподносят друг другу подарки. Знакомые преподносят друг другу подарки. Реклама в журнале: муж и жена с радостными лицами сидят за столом, в руке у мужа пачка долларов, доллары улетают прочь длинной стаей, муж и жена улыбаются, показывая зубы: "Мы не жалеем денег на рождественские подарки!"
Уважающие себя магазины держат специально рождественских зазывал. Куда ни пойдешь, всюду вдоль небоскребов похаживают Санта-Клаусы, по-нашему Деды Морозы. Среди занятых, торопливо идущих людей, одетых в скромные цвета - в серое, черное, коричневое, людей гладко бритых и однообразно подстриженных, эти Деды Морозы, или Санта-Клаусы, бросаются в глаза своей неприкаянностью, своими петушино-красными колпаками и белыми вспененными бородами из пакли. В руке у деда колокольчик. Позванивая им, дед напоминает прохожим об их обязанностях. Позаботился ли ты, прохожий, о рождественских подарках для родственников? Для друзей? Для добрых соседей?.. Кадры Санта-Клаусов черпаются из безработных и студентов, желающих подкормиться на этом пире коммерции. Работа не тяжелая, но противная.
Сотни тысяч мужей и жен толкутся в гудящих универмагах. В небесах и на земле сияют слова: "Спешите купить подарки! Скорей! Позаботьтесь о вашем завтрашнем дне: всё дешевое будет раскуплено!"
"Дорогая леди, если вы купите у нас дюжину чулок, тринадцатую пару вы получите бесплатно".
"Покупайте подарки в магазинах Лернера!"
Что ж, кто-то так привык, и душа его лежит к этой жизни.
Но что здесь полюбить старой женщине, пришедшей из великих просторов нашей страны? "Що мени оце Чикаго?" Сквозь грохот чужого мира несет она в себе другую любовь.
- ...А белье у нас прали в речке. Пойду на Псел, и гуси мои за мной: га-га-га!.. Выполоскаю и на траве расстелю, в хату внесешь - оно сонечком пахнет и воздухом...
О старое дерево, пересаженное в Чикаго с Полтавщины, все твои корни остались там...
- ...Что вы думаете, не можу научиться по-мериканськи. Внуки как начали говорить, то сразу на мериканськом языке. Дочка выучилась. А я - ну что: ну, гуд найт; гуд монин; тэнк ю вери мач - то значит мерси, спасибо вам, дякую; плиз - будь ласка, пожалуйста. И все почти. Они балакают, а я как глухонемая...
- Ни, бросила бы! Так вот моя доля: зять, мериканец, пьет дуже. Совершенно как мой покойный чоловик, никакой разницы. Як бы я на них не заробляла гроши, они б пропали, дочка с внуками. Мне семьдесят четвертый год; уже до смерти работать и на себя, и на них.
- Еще спасибо, тэнк ю вам вери мач, что лифт. Нажмешь кнопку и едешь. Вот только коридоры эти ногами вышагивать...
По коридору шла молодая негритянка в передничке и наколке. С любопытством осматривая нас быстрыми круглыми глазами, сказала старой женщине:
- Гуд монин, мэм.
- Монин, монин, - устало отозвалась украинка. - Ну, дай вам бог всего, заговорилась я... - сказала она мне и покатила дальше свой столик.
1964
ИЗ ПИСЬМА
______________________________
В Италии мы пробыли тринадцать дней. Для меня это много: чрезмерное изобилие знакомств, улиц, статуй, картин, пейзажей, новых слов. Получается теснота в голове и в душе - накатывает, захлебываешься... Я сбегала с заседаний, чтобы незаконно провести полтора-два часа в музее, потом опять возвращалась слушать речи. Не берусь рассказать всё по порядку. Просто несколько впечатлений.
Прежде всего - что за заседания. Это, ты знаешь из газет, во Флоренции происходит конгресс Европейского сообщества писателей. Съехались писатели двадцати шести стран, двадцать шесть знамен стояло за столом президиума. Заседали в Палаццо Веккио, старом дворце Медичи. Там на стенах герб Медичи: шесть яйцевидных пилюль, расположенных овалом, вверху синяя, остальные красные, выцветшие за столетия; предки этих некоронованных владык были лекарями, медиками... Сейчас в Палаццо Веккио - мэрия и разные городские учреждения. Живется им холодно: топить нельзя, испортятся фрески. Мы сидели на заседаниях в пальто.
Вопрос обсуждался актуальный - для всей Европы, для нас тоже: большая литература должна прийти на помощь кинематографии, радио, телевидению; должна вдунуть в них жизнь и мысль. Ораторы говорили об этом на разных языках. В стеклянных будках переводчики трудились в поте лица. В кулуарах шла обычная съездовская жизнь - знакомились, просматривали газеты, фотографировали, интервьюировали, это был нормальный двадцатый век. А на лестнице стояли алебардщики в белых куртках с красной каймой, одна штанина красная, другая белая в красную полосу, сапоги с раструбами, алебарда в отставленной руке: будто прямиком пришли из спектакля "Ромео и Джульетта". А в вечер, когда мэр устраивал делегатам прием, по фасаду дворца пылали глиняные плошки...