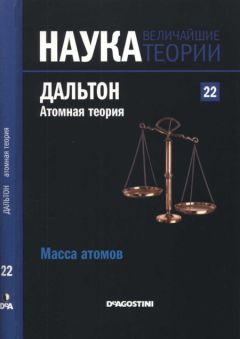насчитывающем более сотни тысяч жителей.
Эти мейлы навели меня на мысли о необитаемых островах и, роясь в Гугле на предмет поисков чего-нибудь забавного на эту тему, чтобы развлечь и удивить моего друга, я наткнулся на «Причины и поводы появления необитаемых островов», короткую рукопись Жиля Делёза [52], относящуюся к 50-м годам, нигде не опубликованную, но тем не менее включенную автором в библиографию к своей книге «Различие и повторение».
Прежде я как-то не брал в расчет, что остров всегда уникален, отличен от всех остальных и в то же время никогда не бывает один, потому что должен быть включен во что-то, именуемое нами «рядом», во что-то, парадоксально повторяющееся в каждом отдельном единичном острове.
Возникновение этой темы побудило меня узнать побольше о книге Делеза и в ходе изысканий я набрел на категорически верное наблюдение Марсело Але: «Именно потому, что нет оригинала, нет и копии, следовательно, нет повторения одного и того же».
Да, это было метко подмечено, однако не пригодилось мне для ответа Дамиану, который знать не знал, что я уже больше месяца вожусь с темной повторения. Утверждение Але из моих уст его бы встревожило. И я решил сообщить ему, что если на Пико, более многолюдном и гуще заселенном, он чувствует себя более одиноким, чем на Корво, то пусть приготовится к тому, что на Сан-Мигеле ему станет еще более одиноко. Вероятней всего, написал я, на Сан-Мигеле тебя обуяет желание попасть на остров, который был бы еще пустынней, чем Корво, например, на остров Робинзона Крузо, и там сможешь наконец почувствовать себя в компании.
– Гениально! – ответил он почти в ту же секунду.
Вот это и есть, подумал я, прямая связь с необитаемыми островами.
От четвертого рассказа «Себе на уме» я бы оставил тот хемингуэевский привкус, который сохранил в своем повествовании и Санчес. Да и не было бы смысла рассказывать эту историю, иначе как взяв на вооружение «теорию айсберга». Ибо сюжет рассказа сам по себе ничего из себя не представлял бы, не сопровождай его вторая история, которая отсутствует и лишь подразумевается, становясь частью того, о чем не рассказывается.
Два главных героя, два хилых забулдыги влюблены в одну и ту же девушку, о которой не говорят, но читатель догадывается, что оба просто одержимы ею и соперничают за нее. И если есть у них на уме что-то, давшее название рассказу, то это, конечно, девушка, в которую они влюблены.
В трех предшествующих главах рассказчиком выступает чревовещатель, а в четвертой он безымянен. Вздумай я переписать «Себе на уме», рассказчик стал бы моим двойником, но не мною, ибо я считаю, что это невозможно: по моим сведениям, тот, кто говорит (в рассказе) – это не тот, кто пишет (в жизни), а тот, кто пишет – не тот, кто существует; нет, это будет двойник Мака, который ограничился бы тем, что всего лишь не отказался бы от замысла рассказать некую непритязательную историю, вроде той, что у Санчеса в «Себе на уме», но заменил бы сюжет о двух бедных гуляках банальным диалогом, который не далее чем сегодня утром я вел с Юлианом, когда на свою беду повстречал его на веранде бара «Тендер». Все, о чем мы с ним говорили, балансировало на грани чистейшего вздора, абсолютной глупости, но диалог наш вдруг проявил и высветил неожиданную черту его характера. Неожиданную и очень опасную.
Дело было так: утром я обнаружил его на веранде «Тендера»: он курил, устремив взгляд куда-то за горизонт, и первым моим побуждением было воспользоваться тем, что он меня не видит, и скрыться как можно скорее. Однако он мало того, что заметил меня, но еще и спросил, который час, как будто время что-нибудь значило для этого отпетого бездельника. Может быть, он хотел сойти за очень занятого человека? Есть люди, которые опасаются, что другие обнаружат не только их полнейшую праздность, но и пребывание в абсолютном вакууме.
Вместо ответа я, поддавшись какому-то низменному и подлому инстинкту, предложил ему убить своего дядюшку. И вслед за тем, как бы желая оправдать каким-то образом то, на что хватило у меня дерзости предложить, придумал отговорку; я, дескать, задумал написать рассказ и для вдохновения мне нужно увидеть его в образе безжалостного убийцы.
– Понимаешь, – сказал я, несколько смягчая свою просьбу, – так бывает, что для романа, который я сочиняю, мне нужно представить тебя наемным убийцей, только и всего. Не думай, пожалуйста, что я в самом деле предлагаю тебе совершить преступление. Выручи, брось на меня взгляд киллера-одиночки, и мне этого будет достаточно.
– Короче говоря, – сказал он, – ты должен верить в то, о чем пишешь?
– Я хочу всего лишь вдохновиться, увидев в тебе наемного убийцу.
– Неужели похож? Надо же… – наемный… А нельзя ли получить малость вперед?
Он глядел на меня все более неприязненно и заносчиво. Подумать только, в первый день я проявил такое слабоумие, что этот самый Юлиан показался мне реинкарнацией племянника Рамо. Он тогда начал говорить, что понимает меня – да ни черта он не понимал! – и докторальным тоном изрекал суждения об «эффекте правдоподобия», который, по его словам, прежде чем возникнуть у читателя, непременно должен возникать у писателя. Понимаю, понимаю, несколько раз повторил он. Но ему хотелось бы, чтоб я, если меня это не затруднит, пригласил его пообедать и превратил в настоящего наемного убийцу, то есть, дал бы денег. В противном случае он уведомит полицию. Вслед за тем он решил блеснуть остроумием: ему, мол, помнится, что я собирался взять у его дядюшки интервью для «Вангуардии», так вот, он хочет знать, убить ли его до интервью или сразу после.
Потом, когда я меньше всего этого ожидал, он устремил на меня взгляд, полный глубочайшего презрения – до тех пор такой глубины мне видеть не доводилось – после чего замкнулся в себе совсем наглухо, приняв невыносимый вид обездоленного на веки вечные. Как вольготно должны себя чувствовать себя в далеком Бинисалеме его жена и дети, подумал я. Что же он такой несчастный-то? – подумал я и спросил в упор:
– Да что с тобой?
– Ты о чем?
– О том, что мне ты можешь рассказать, что с тобой происходит. Потому что ты явно не в себе. Видел бы ты себя в тот миг, когда послал мне этот взгляд убийцы.
Осознав наконец – и, думаю, в полной мере – что я спрашиваю, почему он так угрюм и несчастен, Юлиан начал