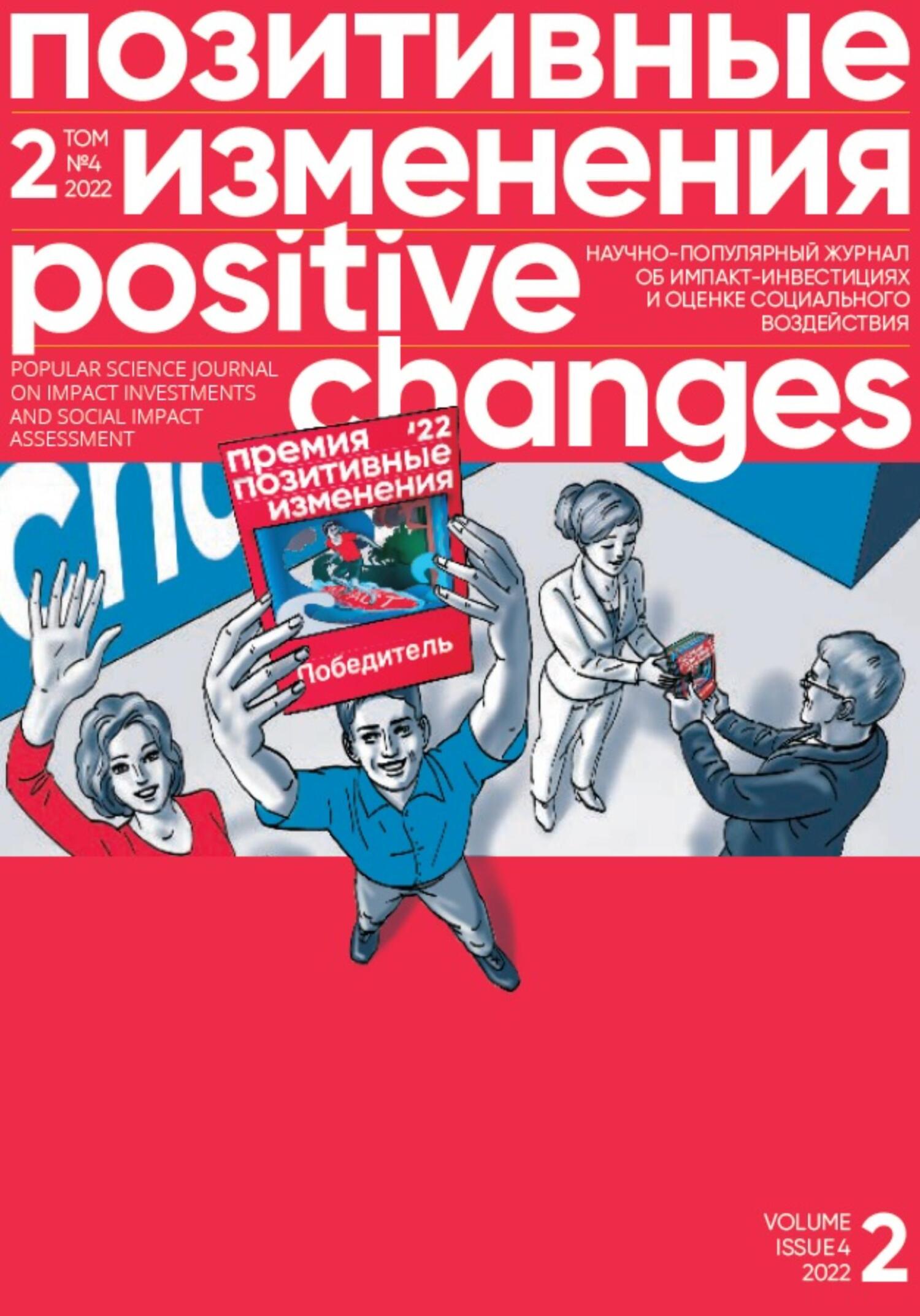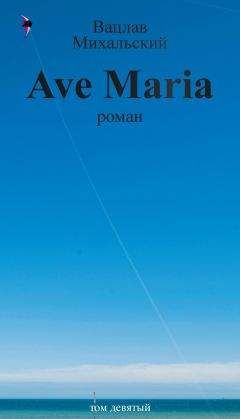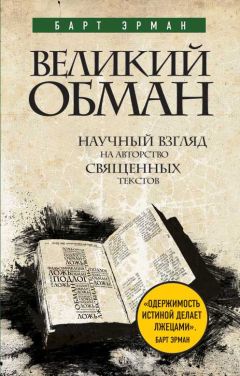сны? – снова спросила Джейд.
За пределами серой комнаты завывала, словно раненый зверь, сирена, затихая вдали.
– Об автокатастрофах, – сказала я. – О злых полицейских, – сказала я. – О зомби-апокалипсисе, – сказала я.
– Твои кошмары, – отметила Джейд, – звучат как чья-то выдумка относительно кошмаров. – Она зевнула, мелкими глотками втягивая воздух.
– Полагаю, я не настолько сложная личность.
– О, я не думаю, что это правда, – возразила она. – Я не вступила бы в разговор с кем-то простым.
Мои челюсти свело, как будто мой рот был набит сахаром.
В свете уличного фонаря, наискосок пробивающемся через жалюзи, кожа Джейд казалась мерцающей, словно какая-нибудь яркая штука, оброненная на сумеречной улице. Но куда это могло привести меня?
* * *
Мне было не по себе, когда мы с ней оказывались на людях, как будто наше общение могло рассыпаться под воздействием свежего воздуха. Поскольку у меня не было любимых мест, мы ходили в ее любимые места – тускло освещенные гастропабы с чистенькой имитацией песчаной посыпки на полу, с грубо сколоченными деревянными столами и голыми кирпичными стенами. Бедность, превращенная в утонченность и дороговизну. Меня одновременно ужасало и привлекало то безыскусное удовольствие, с которым Джейд заказывала и ела местные блюда: макароны с сыром и омарами, сервированные в жирной сковороде, ярко-оранжевая цветная капуста, замаскированная под крылышки «Баффало», шоколадные торты без муки, темные, как безлунная ночь.
Она делилась со мной всем. Не только своей едой, но и всеми своими паролями: к «Нетфликсу» и к «Нью-Йорк таймс», к «Комкасту» и к банковскому приложению. В моем шкафчике в ванной появилась ее зубная щетка, а в кухонном столе – погружной блендер. Она мягким, ностальгическим тоном говорила о своих родителях, о том, как отец тренировал ее команду по софтболу [26], как мать в снежные дни делала картофельный хлеб, оставляя у окна тесто в серебряной миске, чтобы оно поднялось на теплом зимнем солнышке. Детство Джейд состояло из тележек на колесиках и лимонадных прилавков, мягких игрушек и лыжных прогулок. У ее родителей был просторный летний дом на севере штата, недалеко от отпускного поместья некоего ведущего реалити-шоу на телевидении.
– А как насчет тебя? – спросила она, обвив меня руками. – Расскажи мне побольше о себе.
Я рассказала ей о своей работе музейного хранителя, объяснив, что произведения искусства не всегда прибывают к нам в своем изначальном состоянии, и вот тут-то за дело принимаюсь я. Я пояснила, что я не реставратор. Реставратор восстанавливает предмет до изначального вида, в то время как хранитель просто консервирует предмет, чтобы тот не менялся дальше. Как любят говорить хранители, реставратор приставил бы Венере Милосской руки, а хранитель следит за тем, чтобы у нее больше ничего не отпало. Работа хранителя практически невидима; они не стремятся ни переосмыслять, ни изобретать заново, а сохраняют то, что сломано, в том виде, в каком оно есть, и никогда не заменяют то, чего недостает.
– Это как-то печально, – сказала Джейд, хмурясь и поглаживая мой лоб.
Чтобы поднять ей настроение, я рассказала ей о японском искусстве кинцуги, в котором куски сломанного керамического изделия соединяются заново при помощи золотого лака. Описательный смысл такого изделия – сам ущерб и его исцеление.
– Это так красиво… Мне нравится. – Джейд провела пальцем вниз. – Где ты была сломана? – Потом провела вверх, словно застегивая «молнию». – Где ты была исцелена?
Я не рассказала ей о тех годах, которые провела, разыскивая свидетельства из собственной жизни, просеивая теории и догадки сыщиков-любителей, анализируя старые газетные статьи на микропленке, просматривая спутниковые снимки. Я рассуждала так: даже если сам дом разрушен, что-то должно было остаться – кристаллизованный сахарный фундамент, пятно красной краски… Но я не нашла ничего.
Вместо этого я рассказала Джейд, что первой из своей семьи окончила колледж, не говоря уже об аспирантуре, что работала, как собака, чтобы оплатить свое обучение.
– Тебе нужно этим гордиться, – сказала Джейд. Но она хотела большего.
Что я могла сказать? Некоторые части моей реальной жизни кажутся кошмаром, и совсем не те части, о которых вы могли бы подумать. Некоторые годы я могу вспомнить лишь как череду бесплатных стоматологических клиник, долгих очередей в холодной темноте, «черных пятниц» системы здравоохранения. Спортзалы, заставленные мягкими креслами с откидными криками, эхо стонов и криков, гуляющее между стенами. Мои зубы пульсировали болью. После этого я обнаруживала, что меня бьет дрожь, что я не знаю, какие зубы были запломбированы, а какие вырваны. Боль терпеливо ждала за завесой новокаина; мое лицо немело так, что я не могла сложить губы в улыбку, как ни пыталась. «Спасибо», – выдавливала я, едва ворочая разбухшим языком. Стоматологи улыбались той хмурой улыбкой – поджатые губы, склоненная набок голова, – которую я так ненавидела.
Мы с братом заплатили за наше детство этими улыбками. Мы выросли на жалости чужих людей: карточки системы социального обеспечения и голубые талоны на обед; поношенная одежда, вынутая из черных мешков для мусора в плесневелом церковном подвале; распродажные игрушки каждый ноябрь на День благодарения. На Рождество – подарки, преподнесенные старой женщиной в комнате отдыха международной волонтерской организации, где пахло практически так же, как здесь: резиновыми баскетбольными мечами и потными носками. Кукуруза со сливками и клюквенный соус в жестяных банках, игра «Карамельная страна», в которой не хватало важных деталей, огромные футболки, слишком маленькие лыжные костюмы, а однажды – кричаще-розовое шифоновое платье с огромными бантами сверху донизу на спине. Как будто у меня был повод надеть его куда-либо; как будто я вообще хотела его носить.
– Спасибо, спасибо, спасибо, – твердили мы с братом, растягивая губы в улыбке.
«Не берите сладости у посторонних», – гласит предупреждение, и я – ребенок с этого плаката. Как будто мы не получали от посторонних людей буквально все, постоянно.
Я не хотела рассказывать Джейд о таких вещах, поэтому выдала ей горстку рафинированных историй из детства, подборку отдельных беспечальных моментов, как будто бедность сплотила нашу семью. Я рассказала ей, что летними днями бросала камешки с эстакады, что осенью швыряла желуди в детсадовцев – детишек, похожих на саму Джейд. Я сказала ей, что мы нарушали все правила. Что моя мать водила нас на игровые площадки в более богатые районы, потом раскачивала нас на качелях выше всех остальных детей. Я рассказала ей, что мой отец тайком приносил нам игрушки с работы – со склада, куда отправляли грузы, поврежденные при перевозке. Я сказала ей, что мы перехватывали телесигнал с антенны соседей, что я воровала книги из школы, а потом допоздна читала их в постели. Я рассказала ей