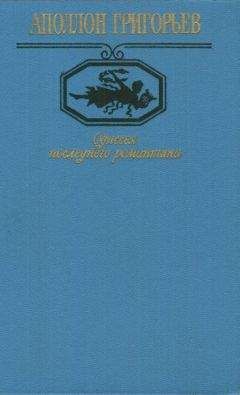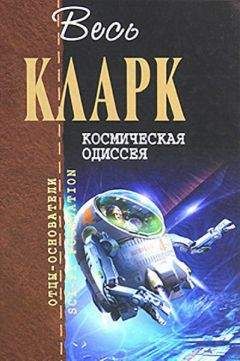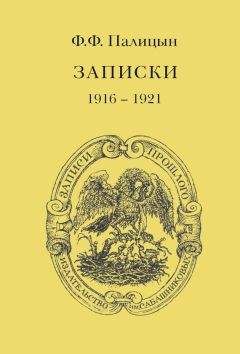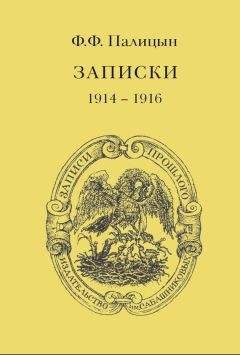Когда она подошла к моему приятелю, он с улыбкою положил ей на тарелку депозитку{260}. Она взглянула на него без удивления, тоже с улыбкою.
Знаете ли вы, что такое улыбка, готовая всегда, на всякий случай, запасная улыбка падшей женщины, страшная хула на жизнь и на радость?..
Очередь дошла наконец до господина в пальто, также неподвижно сидевшего у окна.
Но девочка прошла мимо его.
Он обернулся, однако, и, привставши с места, положил на тарелку мелкую монету.
Арфистка на него взлянула с удивлением, — потом, наклонившись к нему, шепнула:
— Mein lieber Негг, wollen sie, dass wir etwas aus «Lucia»…[95]
— О nein… — перервал было он, но девушка быстро подошла к арфе и взяла аккорд прелюдии знаменитой «Fra poco mi ricovero…»[96]{261}.
Симфония странствующих артистов немилосердно драла человеческие уши; один мой приятель дожидался ее конца с флегматическим спокойствием, да господин в пальто судорожно сжимал себе подбородок.
Я уехал один, потому что Ф. В. почему-то решился пробыть долее обыкновенного.
II
Я еще не слыхал итальянской оперы. Рубини удалось мне слышать в концерте в Москве; но он не произвел на меня особенного впечатления.
Сезон наконец открылся; открылся, разумеется, «Лючиею»{262}, торжеством бергамского соловья{263}, как говорили, по крайней мере. Я не любил и не понимал итальянской музыки, еще менее видел толку в маэстро Донидзетти и даже в его chef d'oeuvre, в его «Лючии». Что мне за дело до этой сладенькой любви, до этого самоубийства самца от потери самки? Так, по крайней мере, я думал, потому что из Москвы привез с собою запас идей о человечестве, понятий о любви как о борьбе двух личностей…{264} Любить — значит враждовать, проклинать, мы не можем любить, потому что любить женщину стыдно, потому что есть иные интересы жизни, к которым человек должен быть привязан, — вот те квакерские убеждения, с которыми я приехал в Петербург. После, конечно, я добрался до той мысли, что любить нельзя потому только, что любить некого и нечего, что без хлеба и женщины для человечества нет интересов, — ну, да это после.
Я, однако, взял билет на «Лючию», потому что итальянская опера входила также в число социальных интересов. Волею рока и за недостатком больших финансов на ту пору я поместился в высшие сферы театра.
Народу было столько, что становилось душно, несмотря на то, что я поместился на очень выгодное место к самой балюстраде, потому что успел прийти за три четверти часа до поднятия занавеса. Ждать вообще чрезвычайно скучно, и я уже сильно досадовал на свой проклятый дилетантизм. И добро еще я забрался так рано для «Роберта»{265}, для этой исполинской трагедии, где дьявол — герой и жертва, а то для «Лючии», для бесцветного создания какого-то итальянского маэстро: что мне за дело до сумасбродного Равенсвуда, до его Лючии, до всей этой старинной шотландской баллады?
Внизу меня, на балконе, сидел опять господин в пальто, которого я встречал в одном доме и в островском трактире. Он часто привставал и оборачивался с нетерпением; его как будто что, как говорится, ломало или била неотвязная лихорадка. Бледные черты его были судорожно искажены.
Поднялся наконец занавес. Я прослушал равнодушно превосходную бравурную арию Тамбурини… но вот появился Эдгар… При первых звуках этого, кажется, устарелого голоса меня подрало морозом по коже, по мне пробежало какое-то новое, доселе не испытанное впечатление… Мой знакомый незнакомец чуть не перевесился за барьер… Все молчало или разражалось неистовыми рукоплесканиями только по окончании арии, только когда совершенно замирало самое эхо этого мучительного голоса… То была сцена любовного свидания, полного надежд, страсти, радости, полного клятв и уверений, — простая дочь дикой Шотландии, она клялась ему, своему избранному сердцем, в вечной любви, в вечной верности: небо слышало эти клятвы, ибо небо знает, что возможна вечная любовь двух половинных существ, ибо небо создало их из одного светила, ибо оно готовило им полное, уничтожающее противоречия слияние за пределами гроба… Зачем же люди встали между ними, люди с их враждою за какие-то семейные предания, с их неотвязною любовью, которая хуже вражды, с их китайским уставом приличий, с их цепями и палачами? Они заставили ее забыть свои клятвы, ее, бедную, слабую Лючию… Но вот является Эдгар под звуки грозного военного марша, ему непонятно все, что происходит перед его глазами, непонятно потому, что противоречит его здравому рассудку… Она его Лючия, и кто же смеет сказать, что она не его?.. Кто?.. Она сама… И он разражается странным, раздирающим душу проклятием.{266}
Внизу меня послышались глухие рыдания… господин в пальто бесновался; когда я взглянул на его искаженные черты, мне не нужно стало добиваться истолкования его жизни. Над ним, как и над многими, отяготела старая, глупая песня о Лючии и Эдгаре, о Ромео и его Юлии…{267} отяготела безысходной, все уничтожающей тоской, подъевшей все другие интересы существования.
Да и где они, эти другие интересы?.. Не все ли стоны человечества сливаются в один стон о хлебе и женщине — не вздор ли все остальное, не средства ли только все остальное?
Я полюбил этого больного человека, рыдавшего без стыда от раздирающих стонов Эдгара, я полюбил этого Эдгара, когда он замирающим, переходящим в вечность голосом пел:
Di bell'alma innamorata…[97]
Да, да — неудовлетворенный на земле, он переносил в иную жизнь свое вечное стремление, с укором земле, с надеждою на небо… на то лучшее бытие, где окованное и стесненное не знает цепей и преград, но сияет свободно, спокойно и вечно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И этого человека, пояснившего мне страшную драму любви мужчины и женщины, я назвал с той минуты братом.
Я с ним сошелся, я о нем расскажу вам когда-нибудь.
Москва и Петербург: заметки зеваки{268}
1. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге
Прежде всего и паче всего прошу покорнейше читателей этих беглых впечатлений — если только найдутся для них читатели — не обольщаться громким названием «Москва и Петербург», не ждать здесь полной, систематической характеристики головы и сердца России, — предуведомление, впрочем, кажется, лишнее, благодаря терпению добрых русских читателей, давно уже испытанному и громкими названиями, и огромными предприятиями. Мои заметки в полном смысле — впечатления зеваки, не французского фланера, который фланирует для того, чтобы видеть и замечать, потому что живет гораздо более жизнию других, чем собственною, — не немца-путешественника, который и смотрит-то на что-нибудь не иначе, как с научною целию, — не англичанина-туриста, который возит всюду только самого себя и показывает только собственную особу, — нет, это беспритязательные, простые заметки русского зеваки, зевающего часто для того, чтобы зевать, зевать на все — и на собственную лень, и на чужую деятельность. Зевота как искусство для искусства, искусство само по себе служащее целию — найдено только русской природой, выражаясь словом господ, зевающих на собственную лень, — и никаким уже образом не есть порождение лукавого Запада, употребляя принятый термин других господ, зевающих на чужую деятельность.
Но дело не в зевоте, не в хандре — дело в Москве и Петербурге, хотя, право, в иную минуту оба эти города кажутся представителями двух этих различных родов зевоты.
Случалось ли вам когда-нибудь ездить по Москве зимней ночью — зимою в Москве и в семь часов уже ночь. Перед вами вереницами и рядами тянутся длинные заборы дворов, то большие, то небольшие дома — на улице ни души, изредка только полозья саней прорежут полосу на рыхлом снеге, да по маленькому тротуару пройдет прохожий, кутаясь в шубу. Все тихо — но отчего так полна для вас жизни эта тишина, не той жизни, которой все интересы сосредоточены в повышениях и партии преферанса, — нет, иной какой-то жизни, забытой вами или, может быть, даже вовсе неиспытанной, но понятной, но доступной вашей русской природе. Посмотрите, сквозь ставни этих уютных маленьких домиков прорезывается приветная полоса света, цельные стекла этих изящных одноэтажных домов освещены ярко, так, кажется, и обливают вас роскошью своего освещения; приподнимитесь немного на ваших санях, остановитесь, если вам нечего делать, некуда спешить, и в цельное окно хорошенького домика вы увидите и стол с стоящим на нем самоваром, и целый круг семьи, столпившейся около этого самовара… и мало ли что вы еще увидите — быть может, свеженькую, алебастровую ручку, грациозно подающую стакан крепкого чаю кому-нибудь из братьев, быть может, рассеянные, подернутые влагой глазки, которые невольно оборачиваются к окну, в то время как их хозяйка, по-видимому, занята только разливанием чаю, глазки, в которых прочтете все нетерпение, каким снабжена русская женщина. И если вы бездомник, если вы варяг в этом славянском мире, если вы не имеете части в семейном самоваре, зачем, за что и почему обоймет вас хандра неодолимая, зачем, как Репетилов, готовы вы сказать своему кучеру: вези меня куда-нибудь…{269} Но куда, куда? еще только шесть часов — вас не тянет ни в театр, надоевший вам до смерти, ни в клуб, в котором просидели вы целое после-обеда, ни к таким же, как вы, бездомникам — вам хочется звуков, вам хочется выражений для этой неопределенной, непонятной тоскливой хандры, — и если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, — о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки, — вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен{270}, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнию или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина{271}: «Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?..» Не эвал, не эвоэ — но другое, скажете вы, распустивши русскую душу во всю распашку… Но ваша душа чересчур переполнилась, вы снова кидаетесь в сани, вы велите ехать куда-нибудь, на одни из тех вечеров, где принимают всякого, даже и варяга, если только известно, что он в состоянии сказать какую-нибудь новую истину, потому что Москва с жадностию бросается на всякую новую истину, как будто Москве нужны новые истины, нужнее, чем для Петербурга ясное небо и чистый воздух. У! Боже мой! какая атмосфера или, скорее, какая разнообразная атмосфера ума окружит вас, как только вы очутитесь в центре такого кружка, — слой ума западного, с его подразделениями на французский и немецкий, слой ума восточного, слой, наконец, ума чисто прадедовского, с памятью жирных пиров доброго старого времени. Но отчего — если только вы пожаловали на такой вечер с свежею, еще не отуманенною вполне московской жизнию, головой, — отчего, говорю я, чем-то странным повеет на вас от этого ума и от этих важных вопросов, которых вы наслушаетесь? — ведь вопросы эти в самом деле очень важны? ведь сочувствие к ним — величайший признак развития?.. Но что до них, бьет полночь — а сегодня театральный маскарад, и вы как порядочный зевака любите, разумеется, толкаться с своею хандрою везде, где только она может получить пищу. — Ну, вот вы и там, вы ходите между масок и домино, но в числе этих домино тщетно будете вы искать хоть один волнообразный стан, хоть одну алебастровую ручку, которые грезились вам в цельное окно хорошенького домика; под этими масками не увидите вы живых и быстрых глазок, которые подернуты были влагою беспредметного нетерпения; куда же стремилось это нетерпение… никуда, о, верьте, никуда: оно родилось и замерло в семейном кружке; оно не помчалось сюда, легкое и воздушное, как сильф; оно тихо заснуло на своем одиноком девственном ложе — и Бог его ведает, что ему грезится теперь, этому юному нетерпению. Что до него?.. а между тем вас объяла опять цыганская вакханалия с томительно-нежною песней — «Полюби меня, душа девица!» — что до него?.. а между тем вся душа так и рвется на простор, так и ищет цели, любви, жизни… Кругом вас пошлые физиономии, бесстрастно-продажные ласки и бессмысленный кутеж… И снова мчат вас сани по пустынным улицам, и снова утомленному взгляду вашему хотелось бы успокоиться на кроткой семейной картине, на девственном образе — но все тихо, все тихо… изредка только, быть может, в одиноком покое девочки брезжит лампада перед ликом Пречистой Девы.