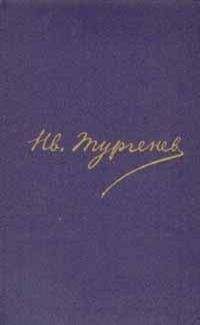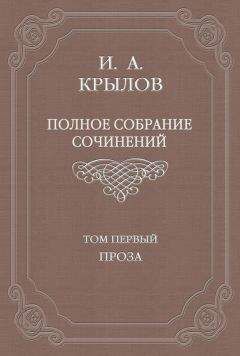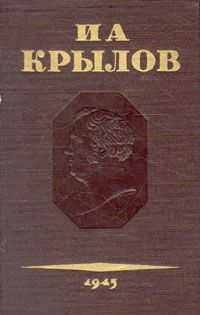Явись случай к наслаждению — малому ли, большому, к развлечению, мы не предадимся ему безотчетно и доверчиво; мы боязливо осматриваемся, выжидаем, прислушиваемся; нам прежде нужно знать: какого оно рода? да в тоне ли? да ездит ли высший свет? А не ездит высший свет, так будь оно хоть как раз нам по вкусу и по карману, — мы, пожалуй, и не поедем. Мы веселимся не столько для себя, как для других. Мы ходим, говорим, одеваемся — не для себя, а для других. Мы часто даже обедаем, спрашиваем лишнюю бутылку вина, распекаем слугу, как будто не для себя, а для других. Благоприятные обстоятельства, к счастию, отклонили от гг. Лежара и Гверры пагубное влияние нашей щепетильности: цирки их почти всегда полны. В цирк Гверры привлекает посетителей в особенности г-жа Каролина Лойо. Соответственное амплуа в цирке Лежара занимает г-жа Полина Кюзан. Общий голос присуждает первенство г-же Каролине Лойо. В самом деле, ловкость ее в управлении лошадью, постоянная уверенность и спокойствие и, наконец, грациозность, которою запечатлено каждое ее движение, поразительны. Она сама занимается приездкой лошадей. После нее, по ловкости и отсутствию переслащенных улыбок и натянутых поз, в цирке г. Гверры — замечательна г-жа Чинизелли. Маленький Карл Прис чудо своего рода. Искусством своим он обязан отцу, с которым вместе и является обыкновенно на сцене. Глядя на изумительные фокусы ловкого, сильного, неутомимого мальчика, невольно начинаешь разделять мнение тех, которые утверждают, что из человека можно всё сделать — и музыканта, и фокусника, и поэта, — если вовремя и с уменьем за него приняться, — мнение в сущности нелепое…
Письмо первое, 1 марта н. ст. 1847.
…Вы желаете услышать от меня несколько берлинских новостей…* Но что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц, — о городе, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо «немеет перед законом»*? Шутки в сторону, Берлин — до сих пор еще не столица; по крайней мере, столичной жизни в этом городе нет и следа, хотя вы, побывши в нем, все-таки чувствуете, что находитесь в одном из центров или фокусов европейского движенья. Наружность Берлина не изменилась с сорокового года (один Петербург растет не по дням, а по часам); но большие внутренние перемены совершились. Начнем, например, с университета. Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночной серенады под его окнами, его речей, студенческих слез и криков?* Помните? Ну, так смотрите же, помните хорошенько, потому что здесь все эти невинные проделки давным-давно позабыты. Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло совершенно — по крайней мере в юных сердцах.* В сороковом году с волненьем ожидали Шеллинга*, шикали с ожесточеньем на первой лекции Шталя*, воодушевлялись при одном имени Вердера*, воспламенялись от Беттины*, с благоговением слушали Стеффенса*; теперь же на лекции Шталя никто не ходит, Шеллинг умолк*, Стеффенс умер, Беттина перестала красить свои волосы… Один Вердер с прежним жаром комментирует логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-й части «Фауста»; но увы! — перед «тремя» слушателями, из которых только один немец, и тот из Померании. Что я говорю! Даже та юная, новая школа*, которая так смело, с такой уверенностью в свою несокрушимость подняла тогда свое знамя, даже та школа успела исчезнуть из памяти людей. Бруно Бауер живет здесь, но никто его не видит, никто о нем не слышит*; на днях я встретил в концерте человечка прилизанного и печально-смиренного… Это был Макс Штирнер.* Впрочем, понятно, почему их забыли; Фейербах не забыт, напротив!* Повторяю: литературная, теоретическая, философская, фантастическая эпоха германской жизни, кажется, кончена*. В последнее время, вы знаете, богословские распри сильно волновали* немецкие души… Законное существование «немецких католиков» (Deutsch-Katholiken), наконец, признано; до сих пор еще не решен спор о непринятии д-ра Руппа (немецкого католика) в Общество Густава-Адольфа (Gustav Adolf’s-Verein), учрежденное для поддержания протестантских приходов в католических землях, хотя общее мнение выразилось в пользу Руппа… Генгстенберг все еще хлопочет о привитии кальвинизма к евангелическому вероисповеданию… Так; но вы ошибетесь, если примете все эти движения, споры и распри за чисто богословские*; под этими вопросами таятся другие… Дело идет об иной борьбе. Вы легко можете себе представить*, какие смешные и странные виды принимает иногда, говоря словами Гегеля, Логос (или Мысль, или Дух, или прогресс, или человечество — названий много в вашем распоряжении), добросовестно, медленно и тяжко развиваемый германскими умами… но от смешного до великого тоже один шаг… Особенно теперь все здесь исполнены ожиданья…
На днях появилась здесь книга* пресмешная и претяжелая, впрочем, очень строгая и сердитая, некоего г. Засса; он разбирает берлинскую жизнь по частичкам, и за недостатком других «элементов или моментов» общественности, с важностью характеризует здешние главные кондитерские… Первое издание этой книги уже разошлось. Это факт замечательный. Он показывает, до какой степени берлинцы рады критическому разбору своей общественной жизни и как им бы хотелось другой…
Искусство здесь — увы!.. Представители искусства* в Берлине все старики (Корнелиус, Раух, ваятель Тик, Шадов, Бегас — уже ветераны); от их произведений веет холодом и смертью, смертью уже потому, что они почти все заняты сооружением и украшением могильных склепов, надгробных и других памятников. Возле собора воздвигается «Campo Santo» на манер итальянских (как, например, в Пизе, Болонье); Корнелиусу заказаны фрески… Я видел некоторые из них. Их без особого комментария понять нельзя; композиция иногда довольно удачна, но Корнелиус презирает колорит — и, как почти все нынешние художники, — эклектик, аллегорист и подражатель, хотя видно, что ему очень бы хотелось быть оригинальным. «Ich trinke gern aus dem frischen Quell» 1, — говорит Гёте, то есть я лучше пойду любоваться фресками Микель-Анджело или Орканьи…* Что мне из этого «пленной мысли раздраженья»?* — Со времени моего пребывания здесь фасад музеума раскрасили альфреско, и довольно плохо, нечего сказать. Тут же поставили «Амазонку» Кисса; эта группа очень хороша, особенно лошадь. Новых зданий в Берлине не видать. Театр перестроен после пожара 1843 года. Он отделан очень, даже слишком богато, но во многом грешит противу вкуса. В особенности неприятны искривленные статуи à la Bernini, поставленные между главными ложами. Приторно-сладкий, голубоватый фон картин на потолке тоже вредит общему впечатлению. Над сценой находятся портреты четырех главных немецких композиторов: Бетговена, Моцарта, Вебера и Глука… Грустно думать, что первые два жили и умерли в бедности (могила Моцарта даже неизвестна), а Вебер и Глук нашли себе приют в чужих землях, один в Англии, другой во Франции. — Я с большим удовольствием увидел и услышал снова Виардо.* Голос ее не только не ослабел, напротив, усилился; в «Гугенотах» она превосходна и возбуждает здесь фурор. Знаменитая Черито гоже здесь. Она очень мила, но до Талиони, до Эльслер, даже до Карлотты Гризи, ей, «как до звезды небесной», далеко. Дрейшок дал здесь два концерта: это барабанщик, а не пианист; но техника его изумительна.
Здесь с прошлого года существует заведенье, которого недостает в Петербурге. Это огромный кабинет для чтения* с 600-ми (говорю — шестью стами) журналами. Из них, разумеется, две трети (почти все немецкие) очень плохи; но все-таки нельзя не отдать полной справедливости учредителю. Немецкая журналистика действительно теперь никуда не годится.*
Вот пока всё, что я могу вам сообщить любопытного. Повторяю: я нашел в Берлине перемену большую, коренную, но незаметную для поверхностного наблюдателя: здесь как будто ждут чего-то, все глядят вперед; но «пивные местности» (Bier-Locale, так называются комнаты, где пьют этот недостойный и гнусный напиток) также наполняются теми же лицами; извозчики носят те же неестественные шапки; офицеры так же белокуры и длинны и так же небрежно выговаривают букву р; все, кажется, идет по-старому. Одни Eckensteher (комиссионеры) исчезли, известные своими оригинальными остротами.* Цивилизация их сгубила. Сверх того, завелись омнибусы, да некто г-н Кох показывает странное, допотопное чудище — Hydrarchos, которое, по всей вероятности, питалось акулами и китами.* Да еще — чуть было не забыл! В «Тиргартене» другой индивидуум, по прозванию Кроль, выстроил огромнейшее здание*, где каждую неделю добрые немцы собираются сотнями и «торжественно едят» (halten ein Festessen) в честь какого-нибудь достопамятного происшествия или лица, лейпцигского сраженья, изобретенья книгопечатания, Ронге, Семилетней войны, столпотворенья, мироздания, Блюхера и других допотопных явлений.