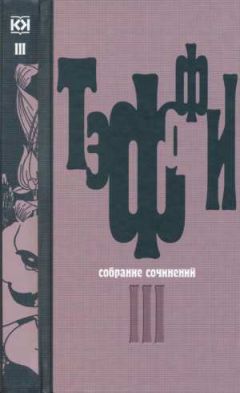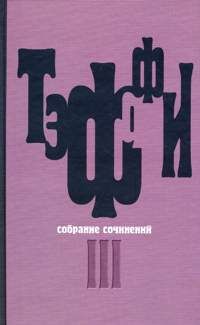– Да, ваш чертик самый красивый, – пролепетала я, – ни у кого такого нет.
Офицер деловито оглядел ужинавших. У каждого прибора сидело по синелевой фигурке – собачка в юбочке, трубочист, обезьянка. Такого черта не было ни у кого. Даже похожего не было.
– Ну еще бы! Такой черт появляется раз в эпоху. Посмотрите, что за хвостик – никто его и не трогает, а он сам дрожит. И какой веселенький!
Не надо было мне всего этого и рассказывать. Мне и без того черт нравился так, что даже есть не хотелось.
– Что же вы не кушаете? – спрашивал «старик». – Мама не велела?
Ах, как все это грубо. При чем тут мама, когда я светская женщина и ужинаю на балу с офицером.
– Нет, мерси, мне просто не хочется… я на балах всегда мало ем.
– Да? Вы себе, конечно, успели уже выработать привычку. Но что же вы не смотрите на моего чертика? Ведь недолго уже осталось вам любоваться. Вот кончится ужин, я его сейчас в карман – и домой.
– А на что он вам? – с робкой надеждой спросила я.
– Как– на что? Будет скрашивать мою одинокую жизнь. А потом женюсь и буду показывать его жене, если она будет себя хорошо вести. Ведь, не правда ли, дивный черт?
«Старый злой человек! – думала я. – Неужели ты не понимаешь, что я люблю этого веселого черта! Лю-блю!»
Если бы он не так восхищался им, я, может быть, решилась бы предложить ему поменяться – отдала бы ему свою розовую балерину. Но он, видимо, сам так был захвачен этим чертом, что и соваться нечего.
– Что это вы как будто загрустили? Жалко, что скоро конец? Что никогда в жизни вы ничего даже похожего на него не увидите? Н-да, такие встречи не часто бывают.
Я ненавидела этого жестокого человека. Я отказалась от второй порции мороженого, хотя, в сущности, хотела еще. Отказалась, потому что уж очень была несчастна. Пусть все летит прахом, не хочу никакой радости и ни во что не верю.
Все поднялись. Мой кавалер быстро отошел от стола. Чертик остался. Я подождала. Право, у меня даже мысли никакой не было. Голова не думала, думало, должно быть, одно сердце, потому что оно вдруг стало сильно и быстро стучать в верхушку тесного корсета.
Офицер не возвращался.
Я схватила черта. Серебряный хвостик упруго ударил по руке. Скорее в карман…
В зале опять начались танцы. Пригласил милый кадет. Я не решилась. Все казалось, что черт выскочит из кармана.
Я его уже не любила. Не было мне от него радости. Тревога и забота. Если бы взглянула на него, может быть, и пошла бы на все муки. А так… и к чему я это сделала. Пойти разве подкинуть на стол? Но дверь в столовую была заперта. Там, верно, уже убирали.
– Что вы такая печальная, моя прелестная дама?
«Старик» стоял передо мной и лукаво улыбался.
– А у меня страшное несчастье. Пропал мой черт. Я в отчаянии. Хочу телефонировать в полицию: пусть сделают обыск. Может быть, среди нас находится опасный преступник.
Он улыбнулся. Ну, конечно, он шутит насчет полиции.
– Сколько вам лет? – спросил он вдруг.
– Мне скоро будет пятнадцать, через десять месяцев.
– Ого, как скоро. Значит, года через три я бы мог на вас жениться. Н-да. Если бы не пропал так необъяснимо мой милый черт. Теперь мне порадовать жену нечем. Что же вы молчите? Я, может быть, кажусь вам слишком старым?
– Сейчас нет, – уныло отвечала я. – А через три года вы уж генералом будете.
– Генералом? Вот это правильное рассуждение. А как вы думаете – где мой черт?
Я подняла на него глаза. Я так ненавидела его и так беспредельно была несчастна, что он перестал улыбаться и отошел от меня.
А я пошла в комнату моей подруги и там, спрятавшись за оконную занавеску (хотя в комнате никого не было), вытащила черта из кармана. Он слегка смялся, но не в этом дело. Он изменился. От него не было радости. Не хотелось ни трогать его, ни смеяться. Это был самый обыкновенный синелевый чертик зеленого цвета с серебристым хвостиком. Какая может быть от него радость? Как все это глупо!
Я встала на подоконник, открыла форточку и выбросила его на улицу.
В передней ждала приехавшая за мной нянюшка.
Подошел офицер, взглянул на нянюшку, усмехнулся:
– А, это за нашей царицей Клеопатрой…
И вдруг замолчал, посмотрел на меня внимательно и прибавил просто и ласково:
– Идите, идите спать, деточка. Вы совсем бледная стали. Господь с вами.
Я попрощалась и ушла спокойная и усталая.
Скучно!
Мне шел двадцать первый год.
Ей, моей дочери, четвертый.
Мы не вполне сходились характерами.
Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась.
Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией – выторговывала у меня шоколадки.
Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться, – за все полагалась плата – шоколадки. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей и уступала.
Она презирала меня за мою бестолочь – это так чувствовалось, но обращалась со много не очень плохо. Иногда даже ласкала мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой.
– Ты моя миленькая, – говорила она, – у тебя, как у слоника, носик.
В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы. И я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность.
Кроме конфет, она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь:
– А где сейчас Иисус Христос?
И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку.
Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная:
– Кухаркина Мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят.
Да, она была строга.
Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось.
Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать.
Выписала, по секрету, от Мюра и Мерелиза картонажи. Разбирала ночью.
Картонажи оказались прямо чудесные: попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики, но лучше всего был маленький ангел, с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, – не понять. Вроде воска. Щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала.
И сразу подумалось – лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет всей его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила.
А утром Валя чихнула, – значит, насморк. Я испугалась.
– Это ничего, что она на вид такая толстуха, она, может быть, хрупкая. А я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. «Она не поймет»!.. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному.
Под сочельник, ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала. Ну, до чего был мил! В коротенькой, толстой ручке – роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку, а в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, – вот тогда только позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блестки и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучше-то ничего нет…
Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль тайная, подлая: высоко, не так заметно для людей «маленького роста».
Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мотьку и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела.
– Ангел? – деловито спросила она. – Давай его мне.
Я дала.
Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки.
Я видела, что он ей нравился, и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уж на что яркий.
Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела… Милая!..
Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном и начались танцы.
Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его… Где же Валя?
Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое и вид ее был смущенный.