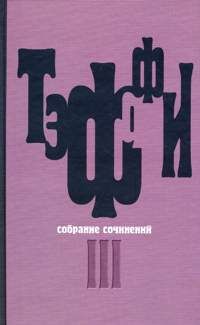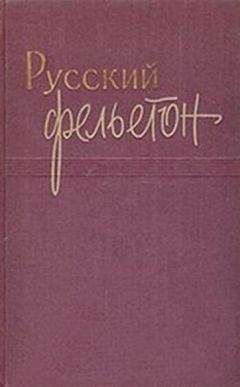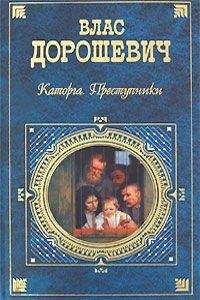Подошла актриса с собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже: понюхала шоколад и тявкнула.
– Откуда? – расспрашивали мы.
– Представьте себе – прямо смешно, – преспокойно купила в лавчонке. И никто ничего и не спрашивал, никаких бумаг, и в очереди не стояла. Прямо увидела, что в окошке выставлен шоколад, – вошла и купила. Бормана. Смотрите сами.
Какая странная бывает жизнь на белом свете: идет человек по улице, захотел шоколаду, вошел в магазин и – «пожалуйста, сделайте ваше одолжение, извольте-с». И кругом люди, и видят, и слышат, и никто ничего, будто так и надо. Прямо анекдот!
– И не кооператив?
– Да нет же. Просто лавчонка.
– Ну-ну! Нет ли тут подвоха. Давайте попробуем. А когда съедим, можно еще купить.
– Только, пожалуй, второй раз уж мне лучше не ходить, – решает Оленушка. – Пусть кто-нибудь другой пойдет, а то еще покажется подозрительным…
Умница Оленушка! Осторожность никогда не вредит.
Когда первая вспышка восторга и удивления проходит, снова становится скучно. Как дотянуть до вечера?
Собачка пищит. Ее хозяйка ворчит и штопает перчатки. Оленушка капризничает:
– Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница, значит, снова истребление жизней. Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами.
– Оленушка, милая, – говорю я, – вот вы сейчас за один присест и между прочим съели добрый десяток. Так надолго ли вам яблони-то хватит?
У Оленушки дрожат губы – сейчас заревет.
– Вы смеетесь надо мной! Да! Да, я съела десяток яблок, так что же из этого? Это-то меня и у… уби… вает больше всего… что я так погрязла, и бе… безвольная…
Тут она всхлипнула, и, уж не сдерживаясь, распустила губы, и заревела, по-детски выговаривая «бу-у-у!».
Аверченко растерялся.
– Оленушка! Ну что же вы так убиваетесь! – утешал он. – Подождите денек – вот приедем в Киев и посадим яблоню.
– Бу-у-у! – убивалась Оленушка.
– Ей-богу, посадим. И яблоки живо поспеют – там климат хороший. А если не хватит, можно немножко прикупать. Изредка, Оленушка, изредка! Ну, не будем прикупать, только не плачьте!
«Это все наша старуха наделала, – подумала я. – перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что тут поделаешь?»
Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли…
Опять глаз!
Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз, другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил с собой в щелочку и нос.
Голос за дверью нетерпеливо спросил:
– Ну-у?
– Вже! – ответил он и спрятался.
Что там делается?
Мы стали наблюдать. Ясно было: на нас смотрят, соблюдая очередь.
– Может быть, это Гуськин нас за деньги показывает? – додумался Аверченко.
Я тихонько подошла к двери и быстро ее распахнула.
Человек пятнадцать, а то и больше, отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки.
– Гуськин! Что это значит?
– Ф-фа! Любопытники. Я же им говорил: чего смотреть! Хотите непременно куда-нибудь смотреть, так смотрите на меня. Писатели! Что-о? Что у них внутри – все равно не увидите, а снаружи – так совсем такие же, как я. Что-о? Ну, конечно, совсем такие же.
Одно интересно – продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром? Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять doigte,[13] упражняется на немых клавишах.
Мы вернулись к себе, заперев дверь поплотнее.
– А собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия? – размышляла Оленушка. – Если им так интересно – пусть бы смотрели.
– Верно, Оленушка, – поспешила я согласиться (а то еще опять заревет). – Да, скажу больше: чтобы доставить им удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк: поставить Аверченку кверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод, и пусть говорит «ку-ку».
Днем, после первой яичницы (потом была и вторая – перед отъездом), развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил.
– У вас здесь, в К-цах, хорошо, спокойно.
Он уныло долбил носом.
– Хорошо-о. А что будет дальше?
– Какие вкусные у вас яблоки!
– Вкусные. А что будет дальше?
– У вас много дочек.
– Мно-го-о. А что будет дальше?
Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог, поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких и глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов – вроде диалогов Платона.
– У вас очень хорошая жена, – сказала Оленушка. – Вообще вы все, кажется, очень добрые!
– Добрые. А что бу…
Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.
После второй яичницы сложили вещи; мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал; мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания – расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить – пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Оленушкой придумали вместе. И еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит, не оглядываясь, на вокзал, а мы врассыпную за ним – ей не догнать, она все-таки старая.
Ждали и волновались.
Через дверь слышны были их голоса – Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе.
– Ах, не сумеет он! – томилась Оленушка. – Такие вещи надо делать очень деликатно.
И вдруг раздался дикий вопль. Вопил Гуськин.
– Он с ума сошел!
Вопил громкие, дикие слова.
– Гелд? Гелд?
И старуха вопила, и тоже «гелд».
Крик оборвался. Выскочил Гуськин. Но какой! Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета и воротничок соскочил с петли.
– Идем! – мрачно скомандовал он.
– Ну что, взяла? – с робкой надеждой спросила Оленушка.
Он весь затрясся:
– Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла. Что-о? Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать – пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал!
Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. Не всегда и поймешь, в чем дело.
– Так я ей сказал просто: вы, мадам, себе, мадам, верно, проснулись с левой ноги, так подождем, когда вы себе проспитесь. Что-о? Я ей просто ответил.
– Но вы все-таки заплатили, сколько нужно? – беспокоились мы.
– Ну? Новое дело! Конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. Разве я такой, который не платит? Я такой, который платит.
Он говорил гордо. И вдруг совершенно некстати прибавил скороговоркой:
– Деньги, между прочим, конечно, ваши.
6
Из К-цов выехали в товарном вагоне.
Сначала показалось даже забавным, сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра. Грызли шоколад, беседовали.
Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было, а так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки.
Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами произведением какого-то развеселого анекдотиста…
Этот новый для нас язык так же мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат: «Не при без доклада»? Или в вагоне: «Не высовывай морду», «Не напирай башкой на стекло», «Здесь тары-бары разводить воспрещается».
Но и веселые надписи надоели.
Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась и просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад, и тщетно взывало начальство к «чоловикам» и «жинкам», указывая им мудрые старые правила вокзального обихода, – освобожденные души были выше этого.
Сколько времени мы тащились – не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал: «Это прямо исчадие ада».
И лампу погасили.
Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты Аверченки и Оленушки.