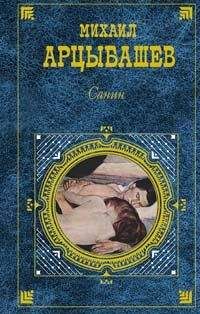– О, брат! – сказал Санин с серьезным восторгом. Иванов с испугом полез назад.
– Чего ты?
– Тише… это Карсавина!
– Разве? А я даже не узнал… Какая же она прелестная! – громко сказал Санин.
– Н-да, – широко и жадно улыбаясь, сказал Иванов.
В это время их услышали и, должно быть, увидели. Раздался крик и смех, и Карсавина, испуганная, стройная и гибкая, бросилась им навстречу и быстро погрузилась в прозрачную воду, над которой осталось только ее розовое с блестящими глазами лицо.
Санин и Иванов, торопясь и путаясь в осоке, счастливые и возбужденные, побежали назад.
– А-ах… хорошо жить на свете! – сказал Санин, широко потягиваясь, и громко запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны!..
Из-за зеленых деревьев еще долго слышался торопливый, смущенный и радостный смех женщин, которым была стыдно и интересно.
– Будет гроза, – сказал Иванов, посмотрев вверх, когда они вернулись к лодке.
Деревья уже потемнели, и тень быстро поплыла по зеленому лугу.
– Тю-тю, брат… беги!
– Куда? Не убежишь, – весело прокричал Санин.
Туча тихо и без ветра подходила ближе и ближе и уже сделалась свинцовой. Все притихло и стало пахучее и темнее.
– Вымочит на славу, – сказал Иванов. – Дай закурить с горя.
Слабый огонек загорелся, и было что-то странное в его слабом желтом свете под свинцовой мглой, надвигавшейся сверху. Порыв ветра неожиданно рванул, закрутился и зашумел, сорвав огонек. Крупная капля разбилась о лодку, другая шлепнулась на лоб Санину; и вдруг защелкало по листьям и зашумело по воде. Все сразу потемнело, и дождь хлынул, как из ведра, покрыв все звуки своим чудным водяным звуком.
– И это хорошо, – сказал Санин, поводя плечами, на которых сразу облипла мокрая рубаха.
– Недурно, – ответил Иванов, но сидел, как мокрый сыч.
Туча не редела, но дождь так же быстро ослабел и уже неровно кропил мокрую зелень, людей и воду, по которой прыгали стальные гвоздики. В воздухе было мрачно, и где-то за лесом блестела молния.
– Ну что ж… домой, что ли? – сказал Иванов.
– Все равно, можно и домой.
Они выехали на широкую темную воду, над которой низко и тяжело клубилась тяжелая туча. Молнии сверкали все чаще, и отсюда были видны их грозные огни, прорезывавшие черное небо. Дождь совсем перестал, и в воздухе стало сухо и тревожно пахнуть грозой. Какие-то черные и встрепанные птицы торопливо пролетели низко над самой водой. Деревья стояли темные и неподвижные, четко вырезываясь на свинцовом небе.
– Ух-ух, – сказал Иванов.
Когда они шли по песку, плотно убитому дождем, все затемнело и притихло.
– Ну сейчас и хватит же!
Туча клубилась все ниже и ниже, опускаясь на землю зловещим беловатым брюхом.
И вдруг опять с новой силой рванул ветер, закружил пыль и листья, и все небо разодралось пополам со страшным треском, блеском и грохотом.
– Ого-го-го! – закричал Санин, стараясь перекричать потрясающий гул, наполнивший все вокруг. Но голос его не был слышен даже самому.
Когда вышли в поле, уже стало совершенно темно. Только когда сверкала молния, из тьмы вырывались их шагающие по гладкому песку резкие темные фигуры. Все гремело и грохотало.
– О…а…о!.. – закричал Санин.
– Что? – изо всех сил крикнул Иванов.
Молния засверкала, и он увидел счастливое, с блестящими глазами лицо.
Иванов не расслышал. Он немного боялся грозы.
Когда опять сверкнула молния, всем существом ощущая жизнь и силу, Санин раскинул руки и во все горло долго и протяжно и счастливо закричал навстречу грому, с гулом и грохотом перекатывающемуся по небу из конца в конец могучего простора.
Солнце светило ярко, как весной, но уже было что-то осеннее в неуловимой кроткой тишине, прозрачно стоявшей между деревьями, то тут то там тронутыми желтыми умирающими красками. И в этой тишине одинокие птичьи голоса звучали разрозненно, и гулко разносилось торопливое жужжание больших насекомых, зловеще носящихся над своим погибающим царством, где трав и цветов уже не было, а бурьяны выросли высоко и дико.
Юрий медленно бродил по дорожкам сада и большими глазами, остановившимися в глубокой думе, так смотрел вокруг – на небо, на желтые и зеленые листья, на тихие дорожки и стеклянную воду, – точно видел все это в последний раз и старался запомнить, вобрать в себя так, чтобы уже никогда не забыть.
Печаль мягко крыла сердце, и причины ее были смутны. Все чудилось, будто с каждым мигом все дальше уходит нечто драгоценное, что могло быть, но не было и не будет никогда. И больно чувствовалось, что по собственной вине. Не то это была молодость и ее молодое счастье, которого он не взял, а оно не повторится; не то огромная заветная деятельность, прошедшая почему-то мимо него, хотя одно время он и стоял у самого центра ее. Как это случилось, Юрий не мог понять. Он был убежден, что в глубине его натуры таятся силы, пригодные для сломки целых скал мировых, и ум, охватывающий горизонты шире, чем у кого-либо на свете. Откуда являлась такая уверенность, Юрий не мог сказать и постыдился бы громко заявить о ней кому бы то ни было, хотя бы и самому близкому человеку, но уверенность была, и тогда даже, когда он ясно чувствовал, что скоро устает, что многого не смеет и может только раздумывать над жизнью, стоя в стороне.
«Ну что ж… – думал Юрий, печально глядя на воду, в которой зеркально стояли опрокинутые берега, убранные желтым и красным кружевом. – Быть может, это и есть самое лучшее, самое умное!»
Заманчиво красивым показался ему образ человека, полного ума и чуткости, раздумчиво стоящего в стороне от жизни, с иронически грустной улыбкой следя бессмысленную суету обреченных на смерть. Но было в этом что-то пустое; в глубине души хотелось, чтобы кто-нибудь видел и понимал, как красив Юрий в этой позе стоящего над жизнью, и скоро Юрий поймал себя на самоутешении и с горьким чувством устыдился.
Тогда, чтобы избавиться от тяжелого сознания, Юрий в тысячу первый раз стал говорить себе, что какова бы то ни была жизнь и кто бы ни был виноват в ее ошибках, в конце концов весь ее громоздкий и как будто грандиозный поток скромно и глупо уходит в черную дыру смерти, а там уже нет оценки, как и почему жил человек.
«Не все ли равно, умру ли я народным трибуном, величайшим ученым, глубочайшим писателем, или просто праздношатающимся, тоскующим русским интеллигентом? Все ерунда!» – тяжело подумал Юрий и повернул к дому.
Ему стало уж чересчур тоскливо в прозрачной тишине золотого дня, где отчетливее слышались даже собственные мысли и слишком чувствовалось медленное, но верное отшествие прошлого.
«Вон, Ляля бежит, – подумал Юрий, увидев что-то розовое и веселое, шаля мелькавшее за зелеными и желтыми кустами. – Счастливая Лялька!.. Живет, как бабочка, сегодняшним днем, ничего ей не надо… Ах, если бы я мог так жить!»
Но эта мысль была только на поверхности: его ум, его тоска, его мучения и раздумия, от которых он так болезненно страдал, казались Юрию необычайной редкостью и драгоценностью, поменяться которою на мотыльковую жизнь Ляли было бы невозможно.
– Юра, Юра! – звонко певучим голосом крикнула Ляля, хотя была уже в трех шагах, и, вся расцветая улыбкой шаловливого заговорщика, молча подала ему узкий розовый конверт.
– От кого? – что-то почуяв, недоброжелательно спросил Юрий.
– От Зиночки Карсавиной, – торжественно и вместе с тем таинственно провозгласила Ляля и тут же погрозила ему пальцем.
Юрий страшно покраснел. Ему показалось, что в этом передавании записок через сестру, в розовом конверте и запахе духов, что-то пошлое и сам он, счастливый адресат, в достаточной мере смешон. Он вдруг сразу съежился и как будто выставил во все стороны колючие перья. А Ляля, идя с ним рядом, с той особой восторженностью, с котором сентиментальные сестры принимают участие в свадьбах любимых братьев, начала щебетать о том, что она очень любит Карсавину и очень рада и еще больше будет счастлива, когда они поженятся.
Несчастное слово «поженятся» густой краской и злым выражением глаз отразилось на Юрии. Провинциальный роман, с розовенькими записочками, сестрами-поверенными, с законным браком, хозяйством, супругой и детишками, встал перед ним именно в той пошлой, тряпично пуховой сиротности, которой он боялся больше всего на свете.
– Ах, оставь, пожалуйста… что за глупости! – почти с ненавистью отмахнулся он от Ляли, и вышло это так грубо, что Ляля обиделась.
– Чего ты ломаешься… ну влюблен и влюблен, что ж тут такого! – надув губы, сказала она и, с бессознательной женской мстительностью попадая в самое больное место, прибавила:
– Не понимаю, чего ради вы все из себя необыкновенных героев корчите!
Она махнула розовым хвостом, пренебрежительно показала ажурные чулочки и ушла в дом, как оскорбленная принцесса.
Юрий злобно проводил ее черными жесткими глазами, еще больше покраснел и разорвал конверт.