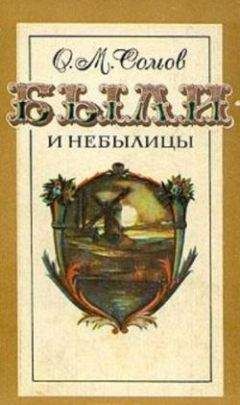— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!
— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.
— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.
— Как вашей милости угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.
— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.
— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.
— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?
— Ин быть по-вашему, батюшка барин, — промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. — Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.
В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству Вот-он Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще господин фон-барон. Этот фон-барон был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света… Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у Вот-он Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.
Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда Вот-он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к Вот-он Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большей кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, — и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке, — ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынесть из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.
— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?
— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слыхал; а с этих пор, видно ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками…
Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.
Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово». — «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа. — Посадили к нам, знать недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». — «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет». — «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна. — Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». — «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни… Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно… Запрягите вы дровни четом, да не парой…» — «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес, — отвечала ему старуха нищая, — не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: „Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!“ Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после тогосвезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет». — Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.