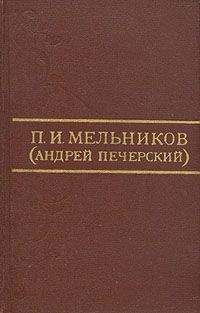— По нашим местам не слыхать, — отозвался Артемий. — А там на сивер, в Ветлужских верхотинах, сказывают, бывало божие проявленье… Хвастать не стану, сам не видал, а слыхать слыхал, что по тамошним лесам божьих кладов довольно.
— И золотой песок? — торопливо спросил Патап Максимыч.
— Есть и пески золотые, — отвечал Артемий.
— Которо место? — с нетерпением спросил Патап Максимыч. Спавший Стуколов вздрогнул и перестал всхрапывать.
— Доподлинно сказать тебе не могу, потому что тамошних лесов хорошо не знаю, — сказал Артемий. — Всего раза два в ту сторону ездил, и то дальше Уреня не бывал. Доедешь, бог даст, поспрошай там у мужиков — скажут.
— Донес бог!.. Вот и зимняк!.. Ялокша!.. — крикнул дядя Онуфрий, сворачивая в сторону, чтобы дать дорогу пошевням.
На расставанье Патап Максимыч за сказки, за песни, а больше за добрые вести, хотел подарить Артемью целковый. Тот не взял.
— Спасибо на ласке, господин купец, — молвил он, — а денег твоих не возьму.
— Экой, парень, чудной ты какой, — говорил ему Патап Максимыч. — Бери, коли дают. На дороге не поднимешь, пригодится.
— Как не пригодиться? — сказал Артемий. — Только брать твои деньги мне не приходится, потому артель…
— Нельзя Артемию с тебя малу росинку взять, — подтвердил дядя Онуфрий. — Он в артели.
— Ну, на артель примите, — сказал Патап Максимыч.
— Артель лишку не берет, — сказал дядя Онуфрий, отстраняя руку Патапа Максимыча. — Что следовало — взято, лишнего не надо… Счастливо оставаться, ваше степенство!.. Путь вам чистый, дорога скатертью!.. Да вот еще что я скажу тебе, господин купец; послушай ты меня, старика: пока лесами едешь, не говори ты черного слова. В степи как хочешь, а в лесу не поминай его. До беды недалече… Даром, что зима теперь, даром, что темная сила спит теперь под землей… На это не надейся!.. Хитер ведь он!.. Распрощались. Пошевни взяли вправо по Ялокшинскому зимняку, и путники засветло добрались до Нижнего Воскресенья.
На постоялом дворе, на одной из широких улиц большого торгового села Воскресенского, в задней, чисто прибранной горенке, за огромным самоваром сидел Патап Максимыч с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Решили они заночевать у Воскресенья, чтоб дать роздых лошадям, вдосталь измученным от непривычной езды по зимнякам и лесным тропам. — Горазды ж вы оба спать-то, — молвил Патап Максимыч, допивая пятый либо шестой стакан чаю. — Ведь ты от зимницы до Ялокши глаз не раскрыл, Яким Прохорыч, да и после того спал вплоть до Воскресенья. — Сон что богатство, — ответил паломник, — больше спишь, больше хочется. — А со мной все время лесник калякал, — продолжал Патап Максимыч. — И песни пел и сказки сказывал; затейный парень, молодец на все руки.
— Слава те, господи, что сон меня одолел, — отозвался Стуколов. — Не сквернились по крайней мере уши мои, не слыхали бесовских песен и нечестивых речей треклятого табашника.
— Пошел расписывать! — молвил Патап Максимыч. — Везде-то у него грехи да ереси, шагу ты не ступишь, не осудивши кого… Что за беда, что они церковники? И между церковниками зачастую попадают хорошие люди, зато и меж староверами такие есть, что снаружи-то блажен муж, а внутри «вскуе шаташася».
— Правая вера все покрывает, — сказал паломник. — а общение с еретиком в погибель вечную ведет… Не смотрели бы глаза мои на лица врагов божиих.
— Нашему брату этого нельзя, — молвил Патап Максимыч. — Живем в миру, со всяким народом дела бывают у нас; не токма с церковниками — с татарами иной раз хороводимся… И то мне думается, что хороший человек завсегда хорош, в какую бы веру он ни веровал… Ведь господь повелел каждого человека возлюбить.
— Да не еретика, — подхватил Стуколов. — Не слыхал разве, что в писании про них сказано: «И тати, и разбойницы, и волхвы, и человекоубийцы, и всякие другие грешники внидут в царство небесное, только еретикам, врагам божиим, несть места в горних обителях…»
— Надоел ты мне, Яким Прохорыч, пуще горькой редьки такими разговорами, — с недовольством промолвил Патап Максимыч.
— Обмирщился ты весь, обмирщился с головы до ног, обошли тебя еретики, совсем обошли, — горячо отвечал на то Стуколов. — Подумай о души спасении. Годы твои не молодые, пора о боге помышлять.
— Береги свои речи про других, мне они не пригожи, — с сердцем ответил Патап Максимыч. — Хочешь, на обратном пути в Комаров завернем? Толкуй там с матерью Манефой… Ты с ней как раз споешься: что ты, что она — одного сукна епанча, одного лесу кочерга.
Стуколов несколько смутился.
— А знаешь ли, что песенник-то сказывал? — спросил после недолгого молчания Патап Максимыч.
— Почем я знаю? У сонного нет ушей, — отвечал Стуколов.
— Про Стеньку Разина сказки рассказывал, про клады, по лесам зарытые, а потом на земляное масло свел, — сказал Патап Максимыч. Сонный Дюков спрянул, уставив удивленные глаза на Патапа Максимыча. А Стуколов преспокойно студил вылитый на блюдечко чай.
— Слышишь? — обратился к нему Патап Максимыч. — Про золотой песок парень-от сказывал. На Ветлуге, дескать, подлинно есть такие места.
— И без него знаем, — безучастно промолвил Стуколов.
— В лесах, говорит, золото лежит, ото всякого жила далече, а которо место оно в земле лежит, того не знает, — продолжал Патап Максимыч.
— Хошь и знал бы, так не сказал, — заметил Стуколов. — Про такие дела со всяким встречным не болтают.
— Сказал же про клады, где зарыты, и в каком месте золотая пушка лежит. Вот бы вырыть-то, Яким Прохорыч, пожалуй бы лучше приисков дело-то выгорело.
— Пустое городишь, Патап Максимыч, — сказал паломник. — Мало ль чего народ ни врет? За ветром в поле не угоняешься, так и людских речей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была, разве нам след за клады приниматься. Тут враг рода человеческого действует, сам треклятый сатана… Душу свою, что ли, губить!.. Клады — приманка диавольская, золотая россыпь — божий дар.
— В одно слово с лесником! — воскликнул Патап Максимыч. — То же самое и он говорил.
— Правдой, значит, обмолвился злочестивый язык еретика, врага божия, — сказал Стуколов. — Ину пору и это бывает. Сам бес, когда захочет человека в сети уловить, праведное слово иной раз молвит. И корчится сам, и в три погибели от правды-то его гнет, а все-таки ее вымолвит. И трепещет, а сказывает. Таков уже проклятый их род!..
— Да полно ль тебе, Яким Прохорыч! — вставая с лавки, с досадой промолвил Патап Максимыч. — О чем с тобой ни заговори, все-то ты на дьявола своротишь… Ишь как бесу-то полюбилось на твоем языке сидеть, сойти долой окаянному не хочется.
Паломник плюнул и, сердито взглянув на Патапа Максимыча, пробормотал какую-то молитву, глядя на иконы. — Весть господь пути праведных, путь же нечестивых погибнет!.. — сказал он потом громким голосом.
— Нет, Яким Прохорыч, с тобой толковать надо поевши, — молвил Патап Максимыч. — Да кстати и об ужине не мешает подумать… Здесь, у Воскресенья, стерляди первый сорт, не хуже васильсурских. Спосылать, что ли, к ловцам на Лёвиху[86].
— В великий-от пост? — испуганно воскликнул Стуколов.
— В пути сущим пост разрешается, — сказал Патап Максимыч.
— Поганься, коли бога забыл, а мы и хлебца пожуем, — молвил паломник сдержанным голосом, не глядя на Патапа Максимыча.
— Эх вы, постники безгрешные… Знавал я на своем веку таких, — шутил Патап Максимыч. — Есть такие спасенные души, что не только в середу, в понедельник даже молока не хлебнет, а молочнице и в велику пятницу спуску не даст. Плюнул с досады Стуколов.
— Как же будет у нас? — продолжал Патап Максимыч. — Благословляй, что ли, свят муж, к ловцам посылать?.. Рыбешка здесь редкостная, янтарь янтарем… Ну, Яким Прохорыч, так уж и быть, опоганимся, да вплоть до святой и закаемся… Право же говорю, дорожным людям пост разрешается… Хоть Манефу спроси… На что мастерица посты разбирать, и та в пути разрешает.
— Отстань от меня, ради господа, — молвил Стуколов. — Делай, как знаешь, а других во грех не вводи.
Патап Максимыч махнул рукой и вышел к хозяевам в переднюю горницу, чтоб спосылать их к ловцам за рыбой. Только что вышел он, Дюков торопливо сказал паломнику:
— Про места расспрашивал! — Не спознал и не спознает, — решительно ответил Стуколов. — Я все слышал, что лесник рассказывал… — То-то, чтоб нам в дураках не остаться, — сказал Дюков. — Будь покоен: попал карась в нерето[87], не выскочит.
***
Патап Максимыч запоздал на Ветлуге. Проехали путники в Урень, под видом закупки дешевого яранского хлеба. И в самом деле Патап Максимыч сделал там небольшую закупку. Потом отправились в лесную деревушку, к знакомому Якима Прохорыча, оттуда в другую, Лукерьиной прозывается, к зажиточному баклушнику[88] Силантью. Оба знакомца Стуколова заверяли Патапа Максимыча, что по ихним лесам вправду золотой песок водитс я. Силантий показал даже стеклянный пузырек с таким добром. На вид песок, ни дать ни взять, такой же, как стуколовский. — Пробовали плавить его, — сказывал Силантий, — топили в горну на кузнице, однако толку не вышло, гарь одна остается. К великой досаде паломника, разболтавшийся Силантий показал Патапу Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото. Как ни старался Стуколов замять Силантьевы речи, на Патапа Максимыча напало сомненье в добротности ветлужского песка… Он купил у Силантья пузырек, а на придачу и гарь взял. Когда совершалась эта покупка, Стуколов с досадой встал с места и, походив по избе спешными шагами, вышел в сени. Дюков осовел, сидя на месте. На другой день, рано поутру, Патап Максимыч случайно подслушал, как паломник с Дюковым ругательски ругали Силантья за «лишние слова»… Это навело на него еще больше сомненья и, сидя со спутниками и хозяином дома за утренним самоваром, он сказал, что ветлужский песок ему что-то сумнителен. — У меня в городу дружок есть, барин, по всякой науке человек дошлый, — сказал он. — Сем-ка я съезжу к нему с этим песком да покучусь ему испробовать, можно ль из него золото сделать… Если выйдет из него заправское золото — ничего не пожалею, что есть добра, все в оборот пущу. А до той поры, гневись, не гневись, Яким Прохорыч, к вашему делу не приступлю, потому что оно покаместь для меня потемки… Да!