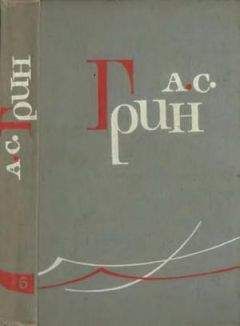Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, – крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:
– Саша, давай читать. Это какая буква?
– М.
– А эта?
– О.
– Верно. Как же сказать их сразу?
В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».
Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, – и так начал читать.
Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.
Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.
Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.
Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.
Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.
По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.
Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.
В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.
Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.
Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».
Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами… Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.
– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища… Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.
Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!» (А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.
Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.
С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.
Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.
Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.
Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.
Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.
Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:
Ветерком пальто подбито,
И в кармане – ни гроша,
И в неволе –
Поневоле –
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай – зовут его;
Словно комнатный щеночек, –
Вот занятье для него!
Философствуй тут как знаешь,
Иль, как хочешь, рассуждай, –
А в неволе –
Поневоле –
Как собака, прозябай!
Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):
И хвостом она махнула
И сказала: не забудь!
Я ничего не понимал, но ревел.
Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.
Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже… Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня – 29 июня, – начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.
К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.
Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.
Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь – босиком.
По-прежнему добычей моей были кулики разных пород: черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка – водяные курочки, утки.
Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье – одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самим способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.
Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.
Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.
Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.
В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытуемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром, чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.
У первого моего ружьеца был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.