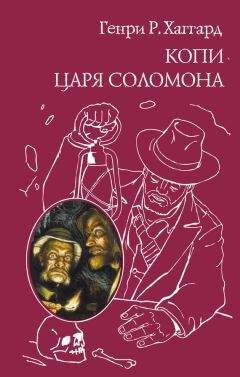— Смотрите! Смотрите! — бормотал Коршунов. — У вас на предмет обрезания интерес? Так, извините, нету! При мне шкурка. А барахлишко ваше я по дороге могу отдать вертухаю, который с несмыканием. Он сносит. Халат же на балконе повесьте. Воздух прочистит мое пребывание в нем.
— Дурачок! — ласково сказала Ольга Сергеевна. — Мой гениальный дурачок!
И она распахнула свой халатик и ринулась на Коршунова так, что он чуть не упал на раковину, но удержался и имел теперь сзади холодящий спину кафель, а спереди голую горячую женщину, которая тянулась к нему своим фантастическим ртом, тыркалась в него коленями, плющила об него груди, но — Боже великий и смеющийся! — Коршунов вошел в себя весь, без остатка, где-то внутри него громыхнули замки и засовы, звякнули цепочки, взвизгнули шпингалеты, шмякнулись вниз темные шторы. И все, нет его. Коршунов был гол, неприступен и независим. Он смотрел на женщину из маленького смотрового или слухового там окошка, которое надлежит иметь всякой уважающей себя крепости, и смеялся тщете ее усилий добраться до него.
— Ты смотри на меня, смотри, — шептала Ольга Сергеевна. — И губы ее спускались ниже и ниже, и уже хорошо были видны: корни ее волос — не огненных вовсе, а обыкновенных русеньких, уже траченных сединой. Была видна оспина от детской прививки, большая, корявая, и странные, несоразмерные пальцы. Тонкий, какой-то безжизненный вялый мизинец и большой палец с раздутой косточкой и широким и низким ногтем.
Он схватил ее под мышки, встряхнул и сказал:
— Потом вы будете страдать, что так поступили.
Ольга Сергеевна тут же запахнулась и — как ничего не было.
— Это вам надо страдать. Импотенту.
— В общем, да, — сказал он. — Я последнее время фурычу плохо.
— Слишком много для одного мужика, — засмеялась Ольга Сергеевна. — Тайный еврей и импотент. Оттого и выхода в ваших пьесах нет, света в конце тоннеля.
— В общем, — ответил Коршунов, натягивая свитер, — когда я это писал, я был вполне.
— Недоказуемо, — сказала Ольга Сергеевна, — недоказуемо…
— Да ладно вам, — засмеялся Коршунов. — Спасибо вам за все. В общем, было даже интересно. Во всяком случае, домработницу я переделаю точно… Вы мне подбросили идею… И вообще… Коньяк… Душ… Все было вполне…
— Жду завтра, будем говорить уже с Ноликом, — сказала Ольга Сергеевна.
— То есть? — не понял Коршунов.
— До завтра, — ответила Ольга Сергеевна. — Придете завтра с идеями. У вас другого выхода нет. Вас все равно никто не ставит. Выпишете роль по мне, и все будет в порядке. И не изображайте из себя униженного и оскорбленного. Пока вы — дурак. Поумнейте ночью. Нолика насмешим, как вы принесли мне веточку…
— Да я не вам ее нес, — сказал Коршунов. — Тут скажешь — не поверят. Я вообще шел мимо…
У самого порога он вдруг остро ощутил, какая она соблазнительная. «Вот это да! — подумал Коршунов. — Хоть оставайся… А то ведь кому сказать…» Но с эмоциями у него был явный разлад. Стоило тормознуть на этой «хоть оставайся», и так потянуло на улицу, на воздух, что вроде он не в чистом и проветренном доме, а в камере, где уже все живое выдышали и пора взламывать дверь. Он и стал взламывать.
— Что вы делаете? — закричала Ольга Сергеевна. — Вы что, не видите, здесь замок.
Выскочил. Внизу в кресле дремал тот, что с несмыканием. Глаза его общупали Коршунова, и была в них откровенная ненависть, а больше зависть. И если ненависть в нем была испоконной, генетической, то зависть была сиюминутной, конкретной, она стыла в щупе глаз, прошмонавших Коршунова и учуявших следы женщины, о которой вертухай всю жизнь мечтал, дремля в кресле, и которую завсегда воображал, затискивая в угол каптерки уборщицу пальмовых листьев. Он думал тогда, что пронзает рыжее лоно всенародной артистки, и от этого рычал радостно и громко, и рык его, ударяясь в помойные ведра, выходил из них не похожим ни на какой естественный звук. И если в этот момент в лифте ехали дети, то их няньки объясняли им просто, что это кричит дедушка Домовой, а если это были родители, то они рисовали научную картину движения воздуха и воды в трубах и утешались, что звуки водопроводных труб не опасны ни с какой стороны.
Откуда это мог знать Коршунов? Он прошел мимо несмыкаемого, и все. Он даже «до свидания» ему не сказал.
Голова была занята странным. Она разыгрывала пьесу, в которой пять абсолютно одинаковых женщин играли абсолютно разные роли. Женщины путались в словах, потому что забывали, которая из них кто. Коршунов думал, что, конечно, это чепуховая идея, но что-то в ней есть. Если взять за основу такое: мужчины — существа многочисленные и разнообразные. Женщин же в количественном плане нет вообще. Есть в природе одна-единственная женщина на сколько-то там миллионов мужиков. Ну и каково ей иметь их всех? А каково мужчинам иметь одну и ту же?
«Идиот, — подумал про себя Коршунов. — Лучше разрабатывать тему Гвоздя-мечтателя. Гвоздя, ждущего Мессию. Как он прячется. Как он зарывается в хлам. Как выскальзывает из рук. Как он сам себя точит, чтоб не потерять способность. Как он в поисках точила обхаживает всякие твердости, а эти дуры принимают его прикосновения за поцелуи…»
Одним словом, в голове была каша из гвоздей и женщин, а на лавочке у подъезда сидел застывший от холода Нолик.
— Да, — сказал Нолик, — да. Моросит… Ерунда, но у меня нежные почки. Странно, да? Нежные почки… Другой образ. Представляется клубочек завязи с тугой, скрученной силой… Нежной, но неукротимой. А я про фиолетовую больную материю, которой вот такая погода ну просто ни с какой стороны…
— Ну и шли бы домой, — ответил Коршунов.
— Как же, — слабо выдохнул Нолик. — Вас… Вы же были у меня дома…
Коршунов не то свистнул, не то хрюкнул, не то рявкнул.
— А почему, собственно, такое удивление? — не понял Нолик. — Она моя жена. Хотя странное определение применительно к ней.
— Мы поговорили и не поняли друг друга, — твердо сказал Коршунов. — Это чтоб вы не брали в голову лишнее.
— Голубчик! — сказал Нолик. — Голубчик вы мой! Это ужасно, если не поняли. Ужасно… Ей нужна роль. Большая. Звонкая… Чтоб она царила в ней. Ей только такие роли годятся. Она не любит Чехова. У него нельзя царить. Шекспир… Уильямс… Это по ней.
— Господи! — взмолился Коршунов. — Даже в крутой пьянке… Даже в момент наивысшего самомнения… Это я в голову не брал. Шекспир там или Чехов… Вы спятили…
— Конечно, — ответил Нолик. — Конечно, вы — не… Поэтому и нечего вам выпендриваться. Ваш бюджет на нуле, я узнавал. Вам уже за сорок. Талантливые мужики к этому времени успевают все сделать и помереть с сознанием состоявшейся жизни.
— Спасибо, — засмеялся Коршунов, — на добром слове.
— На здоровье. Я в этом лицо заинтересованное. Напишите ей роль из всех женщин, оставьте остальным то, чего они стоют. И помирайте себе. У вас в спектакле должна быть Одна Актриса. Одна! Понимаете?
— Вы сговорились? — спросил Коршунов.
— Конечно, — ответил Нолик. — И Главный так считает. Я не учел вашей прыти, что вы уже сегодня будете здесь… А она у меня не дипломатка. Я это вижу по результату. Но вы-то что? Вам такие женщины встречались по десять на дню?
— Нет, — честно ответил Коршунов. — Нет, вы отхватили музейный экземпляр.
— Слава богу, что понимаете… Вот давайте пойдем от этого. Давайте сломаем пьесу… Честно сломаем, до досок… И выстроим снова. Ведь никто ее не читал. Никто не видел. В сущности говоря, ее не существует. Чего вы ломаетесь? Это будет бенефисная вещь, с вашими же словами… Вы сообразите на то вы талант, — как перенести их в другие уста. И ни в какие-нибудь… В уста Актрисы, которую вам с огнем не найти. А потом пьесу схватят все театры. С ее подачи… Ну что я вас уговариваю? У меня ноют почки… Я жду тут уже три часа.
— Почему вы не поднялись?
— Это самый идиотский вопрос из всех идиотских вопросов, которые я слышал в своей жизни. Самый! Вы дурак, Коршунов?
— Да, — ответил Коршунов. — Да. У меня еще один идиотский вопрос. Как вы узнали, что я там?
— Я с вами развожу руками, — сказал Нолик.
И он действительно развел руки, и в ночи, на фоне сумрачного неба и моросящего дождя, снова стал похож на растянутый вширь двугорбый капор.
— Вы слышали про такое изобретение — телефон?
И он пошел в подъезд, съеживаясь, сморщиваясь на ходу до величины своей больной фиолетовой почки.
Коршунов было крикнул, что у него есть идея одной женщины на всю пьесу, в конце концов столько технических возможностей это осуществить, но вдруг устыдился, потому что понял, что все это тысячу раз было и не им придумано. Господи, спохватился, как я это успел не сказать, а то бы скрутили трусиками и маечками… А пошли вы!
Конечно, изобретение телефона уже было.
Конечно, бездарно было ему, Коршунову, сыграть роль Нолика на лавочке в собственном дворе.