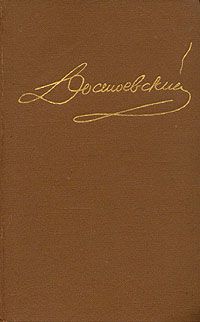У нас нет общества, нет общественного дела, в котором каждый принимал бы живое участие и которое давало бы предметы, направление и внутреннюю форму для деятельности. У нас нет общества, но есть кружки, фальшивые подобия общества. В этих то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких, ничтожных подобиях общества, в этих кружках, с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше, здесь-то совершаются эти быстрые развития, — быстрые, потому что пустые, — здесь-то, на словах, передвигаются горы и на фразах перевертывается мир, здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса.
Вот причины жалкого состояния нашего образования, вот причины пустоцветов, которыми наша литература беспрерывно наполняется с отчаянным изобилием, вот причины этого ребяческого нахальства, этого невежества, прикрытого фразами, украденными у науки, этого непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на перестройку ее оснований, на разрешение ее задач. Вот также причины, почему всякая нелепость может иметь у нас ход и рассчитывать на успех. В самом деле, нет такой нелепости, которая могла бы у нас отчаиваться в успехе. Нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться, что они вдруг, к изумлению окружающих, не пустятся в трепака. Кого же винить и что делать? Должно ли с сугубою силой налечь на те незаметные, на те ничтожные зачатки знания и мысли, чтоб окончательно подавить их? Должно ли усиливать те причины, которыми порождаются праздные кружки, праздные доктрины, те причины, которыми поддерживаются ребячество мысли и бессовестность слова. Будем ли мы придавать серьезное значение всем этим нелепостям, которые зарождаются в атмосфере кружков, как бы эти нелепости ни казались нам чудовищны? Будем ли мы усиливать их и давать их raison d'être,[31] считая их чем нибудь существенным, а не тем, что они есть в действительности— пустыми миражами?
Наши esprits forts,[32] наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего, все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой».
Мы нарочно перепечатали всё это место целиком; мы не хотели передавать его своими словами, чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватали из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде.*
Итак, вот каково мнение «Русского вестника» о современном положении вещей в нашей литературе, в нашей науке и даже в нашей жизни. Нет у нас «совестливых» людей, говорит он обо всех без исключения. «У нас ничто и ничего не представляет никаких задатков будущего: все это одна гниль разложения» Одним словом: всё гниль, и все гниль!..
Сильно сказано.
И пусть «Русский вестник» не придирается к нам; пусть не говорит потом, что мы сами выдумали про все и про всех·, а он никогда ничего не говорил подобного. Если б он говорил не обо всех без исключения, то он отнесся бы к этой «гниющей» среде так же, как мы определили ее место в общем движении. (Ссылаемся на выписку из майской книжки нашего журнала). Он не принял бы крикунов за деятелей, бездарных фразеров и пустозвонов — за всех и за всё. «Всё, все! Но ведь это неслыханная дерзость против здравого смысла!» — кричит читатель.
Конечно так; но «Русскому вестнику» какое дело до криков и даже в иных случаях до здравого смысла. Ему надо доказать, что всё гниль, одна гниль и даже вовсе не от обстоятельств каких-нибудь гниль, а просто от собственной нашей бессовестности… Впрочем, он ведь и не доказывает. Он только кричит… Но разберем, однако же, так ли он кричит?
То место вашей заметки, где вы, «Русский вестник», сравнивали нашу науку с «Тредьяковским», нам показалось значительным. Показалось нам, что вы именно указываете на больное место и недалеки от настоящей причины плачевного состояния нашей образованности. Но надежды наши тотчас рассеялись. Как обернули вы дело? Вы начали ругать наших «прогрессистов», наших «борзописцев», наших «крикунов» не только за их увлечения и малоумие, — это пусть бы! — нет, вам надо было еще доказать, что они нечестные люди, что они бессовестные. Мы даже убеждены, что вы, собственно, для этого-то и пустили ваш элегический плач… Без этого что ж за выгода была бы вам повторять, что у нас нет науки, нет литературы? Ведь это всё так старо! Вы уж так часто об этом говорили и прежде…* Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет…* Нет, у вас была другая цель, и именно та, на которую мы указали. Вы раздражены. Мы знаем, отчего произошел ваш задор… Но об этом после.
Итак, между борзописцами, между заблуждающимися (уж уступим вам это, на время, вполне), нет ни одной чистой совести, ни одного честного существа, ни одного непустого человека, ни одного действительно трудящегося, заботящегося, страдающего, мученика мысли и науки. Как же вы говорите: «начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой»? Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему веленью?
Но, позвольте, мы начнем по порядку.
Вы говорите, что никогда еще не распложалось так много слов и фраз, как теперь, когда все толкуют о самостоятельности мысли. Согласны; но это понятно: готовым ничего не дается; всё нужно сделать, выжить и даже выстрадать, и всё начинается сначала, а начинается всегда так. Никто разом не доходит до последнего слова, до окончательной гармонии в жизни. Вы говорите: «никогда еще не доходила до такого всевластного господства рутина, бессмысленное и рабское повторение мнений из чужой жизни, как теперь, когда все, по-видимому, из того лишь бьются, чтоб жить своим умом и не поклоняться авторитетам». Но ведь и вы знаете, что если нет почвы и если невозможна деятельность, то стремящийся дух именно выразится в явлениях ненормальных и беспорядочных, именно примет фразу за жизнь, накинется на готовую чужую формулу, обрадуется даже ей и ею заменит действительность! В фантастической жизни и все отправления фантастические. Но, по-нашему, это страдания, это безвыходные муки. А по-вашему, все фразеры. Да разве это возможно? Разве увлекающийся фразой, готовой формулой непременно должен быть бессовестный человек, пустой крикун, мыльный пузырь? Разве не может увлекаться и ошибаться истинная, честная пытливость ума, честный и совестливый человек? С страданием ища выхода, он спотыкается, падает… Да такие-то люди и спотыкаются. Зачем же пятнать их названием бессовестных? Кому придет в голову, особенно в иную минуту, смеяться над такими людьми, кроме вас, из глубины кабинета, в котором вы сидите с вашим олимпийским спокойствием? Вы даже как будто рады этому. Блажен тот, который и в уродливом явлении способен увидеть его историческую, серьезную сторону! Блажен тот, который не думает, что к нему в рот будут готовые галушки падать! Блажен тот, кто от залезшего, чуть не в трубу, трубочиста не потребует непременно академических поз и красоты Аполлона Бельведерского! Блажен, наконец, тот, который не оскорбляет своим свистом несчастного в минуту его несчастья!
«Эти доктрины, — говорите вы, — где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абструзные (абструзные! эко словечко-то! тридцать педантов, сойдясь вместе, не выдумают ничего лучше этого слова!) выкладки математики… Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения…»
А вы знаете ее, эту формулу? Что ж вы нам ее не откроете, коли знаете? Вы так свысока говорите, что можно подумать, вы уж ее и нашли, и бережете про себя это сокровище. Ведь вам всё так легко: у вас вон жизнь придет когда-нибудь сама собою; вы сердитесь, что нет до сих пор общества, а есть кружки, как будто общество так само собой и устроится без первоначальных кружков? Вам всё так легко! Что ж, если другие-то именно и ищут эту формулу, о которой вы говорите; не довольствуются одним утешением, из прописей, что она есть и должна быть, а именно хотят сами найти ее, или споспешествовать ее открытию, ищут, иногда пресмешно ошибаются, падают, а вы только стоите да посмеиваетесь над ними, над их судорогами и ошибками, пальцем не желая к делу притронуться, чтоб не замарать ручек. Да уж не вы ли и есть один из тех фразеров, на которых вы так сердитесь? И вот что еще: вы ужасно легкомысленны. Вы думаете, что так легко обмануть людей: «да я-то, дескать, и тоскую, я науку защищаю, которую унижают и уничтожают крикуны и мальчишки; я сам тоскую и скорблю, глядя на это, и вот пустил свой элегический плач». Но при всем вашем уменьи фразерствовать вы ведь так наивно высказываете свою настоящую цель! Вы не за науку стараетесь, вы ровно ни о чем не тоскуете. Вам просто надо было назвать всех «прогрессистов» бессовестными, пустозвонами и манкенами. Ведь такое презрение не может быть у серьезно и свято сочувствующего делу человека, у умеющего хоть что-нибудь различать человека. С каким цинизмом вы обнажили себя! О боже! если б вы говорили только о крикунах и мальчишках, бездарных, бездарно и грубо схватывающих одни верхушки идеи, толкующих ее односторонне, с предательским легкомыслием вредящих всякой новой идее уж тем одним, что они кричат и звенят о ней, опошливающих ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства, — о, тогда мы бы сами присоединились к вам, рады бы вы или не рады были такой компании! Но вы, во-первых, поголовно всех мыслящих и желающих света, кроме себя, считаете крикунами, а во-вторых, всех этих, по-вашему, крикунов и прогрессистов считаете бессовестными, и именно на это-то напираете, именно это хотите доказать. Вы говорите: нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться… Это ваши собственные слова. Вы говорите далее, что мы (мы тут, разумеется, для красы) оттого прогрессисты, что боимся прослыть людьми отсталыми, что «мы готовы нести или выслушивать всевозможную чепуху, чтоб только не подать подозрения, что мы не прогрессисты» (следовательно, сознательно бессовестны), что, наконец, «гаркни кто-нибудь, что прогресса нет, что всё в жизни бессмысленно и случайно… и мы готовы смиренно подчиниться и такому решению, лишь бы только остаться на счету прогрессистов».