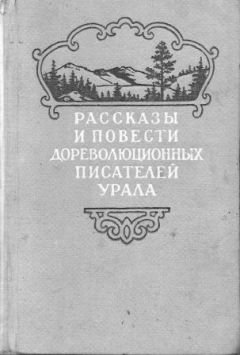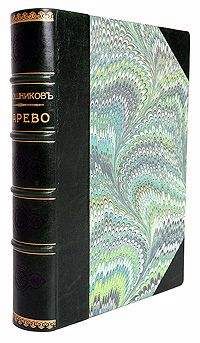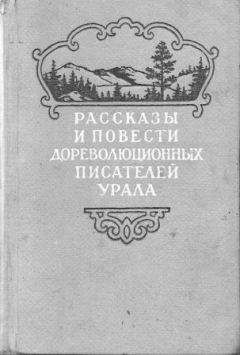Но вставал грозный призрак бездомной, затравленной женщины, ночующей в парке, и трехрублевка пряталась на свое место.
— Но мы еще, может, и не умрем, Норма! Ведь есть же на свете добрые люди… Это воровать стыдно и грешно, а просить милостыню вовсе не бесчестно, вовсе! Разве мне лень работать?
Ядвига принималась тихонько плакать за дощатою переборкою, а собачонка беспокойно взвизгивала, заглядывая ей в лицо, и лизала у нее руки.
И несколько раз девушка готова была протянуть руку за милостыней, но в последнюю минуту находила робость, и язык не шевелился, будто чужой. Люди с удивлением замечали, как странно смотрит на них эта бедно одетая и истощенная девушка, будто хочет о чем-то спросить; но та молчала, и они проходили мимо.
— Нет… не могу… не могу! — с отчаянием признавалась Ядвига.
Оставалось несколько копеек, на которые она купила хлеба, разделив его на три куска, по одному на день. Теперь стало страшно думать, и она более не думала.
Утром сегодня, когда Ядвига нагнулась обуться, у нее потемнело в глазах, задрожали ноги, и она потеряла сознание. Очнувшись, почувствовала слабость, лихорадочные то жар, то озноб, но все это вовсе не было страшно, как раньше казалось, было даже приятно: в ушах колокольчики, а по комнате плыли не то во сне, не то наяву знакомые лица — матери, Ясека, господина директора и молодого человека с книжкою в руках…
А подле Ядвиги свернулась голодная Норма; у нее горячий, сухой нос, и она тяжело вздыхает, как человек.
III
В сумерках картузник решил сходить к своему гостеприимному приятелю Панфилову и занять у него денег до воскресенья.
— Чего доброго, еще в самом деле станет жаловаться в участок, волокита одна, — ворчал он, озабоченный угрозою дворника.
Жена с некоторым колебанием посмотрела на него и промолчала, проводив недоверчивым взглядом. Она успела склеить не одно украшение на чьи-то несчастные головы, вскипятила самовар, а мужа все нет как нет. Мучимая подозрением, баба уже собиралась на поиски, но тут вышла из-за переборки жиличка с чайником для кипятка, вышла укутанная в шаль и едва держась на ногах.
— Батюшки, да никак ты захворала! Землей, гляди, обметалась…
Ядвига наклонилась, чтобы нацедить в чайник, но вдруг пошатнулась и сунулась ничком на пол. На все расспросы и хлопоты картузницы она только бормотала что-то совсем невнятное и глядела помутневшим, остановившимся взглядом.
Картузница бросилась к дворнику, но, знакомый с порядками, тот невозмутимо заявил, что в участок и соваться нечего: из квартир полиция больных на себя не берет, а обязан поместить в больницу сам наниматель квартиры.
— Да ведь умирает ежели человек! Сделай милость, устрой, а я уж отблагодарю, вот святая икона… Дьявола-то моего нет, как нарочно.
— Надоели вы мне все, анафемы! Чистый дворник, барский дом, — передразнил он кого-то: — а на деле хуже ночлежки, с участком делов не оберешься…
Условившись о двугривенном, Николай согласился покривить душой и представить больную по начальству, как якобы упавшую на улице неизвестную. Надев фуражку с бляхою, он приказал покрыть голову Ядвиги платком, взвалил бесчувственную девушку на извозчика и двинулся в путь.
Картузник вернулся вскоре после этого, вернулся трезвый, но из кармана предательски торчала красная головка полуштофа. Выслушав сетования и жалобы жены на стрясшееся без него, он с некоторым разочарованием произнес:
— Вот оказия-то! А я хотел у нее вперед попросить, Панфил-то всего два рубля дал… Ну, да царство ей небесное. — И перекрестился.
— Очумел ты, что ли? Человек живой, а он за упокой поминает, — даже попятилась от него баба.
— Умрет! — безапелляционно решил тот. Уверенность его даже передалась его жене.
— А такая-то уветливая была, ласковая… — тоже уж как об умершей вздохнула она. И в десятый раз описывала случившееся, припоминая все новые и новые подробности.
Опустевшая, незапертая комнатка вдруг сделалась притягательно заманчива: даже без всякой корыстной цели хотелось заглянуть, дотронуться, поискать. Просто подкупала, раздражая любопытство, самая безнаказанность запретного, его доступность. Сперва они только заглядывали, не переступая порога, потом стали заходить на минутку, под конец не вытерпели и, будто по уговору, начали с лампою обшаривать каждый угол.
— Молитвенник, должно, с крестом… не по-нашему написано… Помада, гляди, живой об живом и думает…
— А там что? В корзинке-то… Вижу, полотенце! Под ним-то, говорю, что? Подыми…
— Да карточки! Никак, она с матерью… Что это?!
Из пачки фотографий выпала трехрублевка, старая, с большим чернильным пятном. Будто испугавшись мелькнувшей у обоих мысли, сразу все спрятали на свое место и ушли пить чай. Пили и перебрасывались короткими фразами, с большими паузами, не глядя один на другого.
— Два рубля дал Панфил-то… нету, говорит, больше…
— Стало, и нету. Дал бы, не тот человек, чтобы врать.
— Не тот. А надо бы хоть четыре с половиной, чтобы за полмесяца.
На этот раз помолчали дольше. Только ребятишки стонут во сне.
— А ведь пропадут, коли умрет. Опишут барахло, а деньги прикарманят.
— Прикарманят. Ведь и до срока-то пять ден всего, слова бы не сказала…
Потом деньги были взяты, и чай допивали в глубоком молчании.
Пришел дворник запереть комнатку Ядвиги.
— Намаялся за чужие грехи… Давай двугривенный-то! Голодный обморок, сказали, с голоду. А в себя не пришла, горячка, говорят, должно, нервная какая-то…. Придумают!
Он получил двугривенный и четыре с половиной за квартиру.
Известие о голодном обмороке произвело, видимо, удручающее действие на картузника. Спосылав за селедкой, он откупорил бутылку и стал пить чайной чашкой. Угрюмый и мрачный.
— С голоду, стало быть… А? Слышь? О, господи, господи!
— Говорю, давно я примечала. Третьего дня ситника купила два фунта да больше не покупывала…
Тихо. Дети стонут спросонок, вдали звенит трамвай, гудит мостовая. Он все пьет, жадно пьет и морщится, будто у него болят зубы.
— С голоду… как есть сирота… Ну, сказала бы! Неуж бы не накормили? Хлеб да картошка все есть, чего другого… О, господи!
— Что заладил: с голоду да с голоду… Без тебя слышали! Будет трескать-то, оставь к завтрему, заходишь опять как непокаянная душа! С какой радости жрешь-то? — ругалась жена.
Он все пил, мучимый огневой жаждой, а когда не осталось в бутылке, снес куда-то свою венскую гармонику и принес новую бутылку.
— С голоду… а я украл у голодного человека, у покойника, почитай! Ну, сказала бы, ведь хлеб есть, а то с голоду…
— Да будет тебе, пьянюга! Налакался до чертяков, злочасть моя, пропаду на тебя нету…
— И на что украл-то? Добро бы тоже на хлеб, а то для толстопузой лягушки-генеральши! Свезет к Пантелеймону али Иверской, а там монахи пропьют с девками… А я украл у голодного человека!
На другой день было рождение генеральши, и после обедни к ней приезжал приходский священник с дьяконом. Батюшку оставили на чашку кофе, но он торопился на закладку дома к одному купцу и, извинившись, откланялся. На подъезде он разжал руку и показал опасливо косившемуся на нее дьякону:
— Трешница… Да и какая потрепанная, в чернилах вся, пожалуй, неходячая… о люди, люди!
Какой-то растерзанный человек вышел из-под ворот, нетвердо держась на ногах, и приблизился с дерзким и вызывающим видом.
— Батюшка! От голоду она, а я украл… Можете вы чувствовать, батюшка? Обжоры вы, живоглоты толстопузые! Может, она вам ее отдала, трешницу-то, а я украл… О, господи!
— Иди себе с богом, иди… — отмахнулся батюшка, усаживаясь в экипаж: — Иди… О, люди, люди!
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1908, No№ 191 и 193, 3 и 5 сентября.
Стр. 291 Ариды (просторечное) — ироды.
БУДНИ
I
— Вот это уж настоящее счастье выпало девушке! Вот это значит в сорочке родиться! И чем взяла-то! Глядеть не на кого: худенькая да щупленькая, лицо как у кошки, одни только глаза и есть на нем… Век надо бога благодарить за такую долю!
Это в один голос твердили Танечке, когда она была еще в невестах, то же слышала она ото всех, сделавшись женою Андрея, так что под конец сама стала думать чужими мыслями и поверила в свое счастье. Подойдет, бывало, к зеркалу, сама удивится: и за что в самом деле Андрей выбрал ее, такую невзрачную, нищую сироту? Озолотил, осчастливил… За что?
— Ах, надо очень ценить этакого мужа, надо в глаза ему глядеть! — И она глядела в глаза Андрею, готовила его любимые кушанья, чистила ему бензином фрак, ухаживала за его канарейками и старалась одеваться изящнее, причесываться замысловатее, чтобы он не разглядывал ее лица. И в свое "некрасивое лицо" она уверовала непреложно тоже с чужих слов.
— Ведь всякому кажется, будто он хорош, а другим виднее. Все говорят, что во мне только кожа да кости… Вон глазища-то какие!