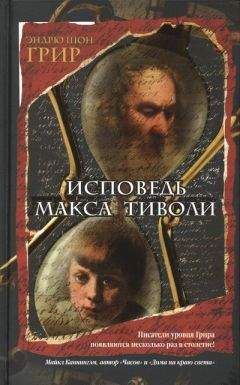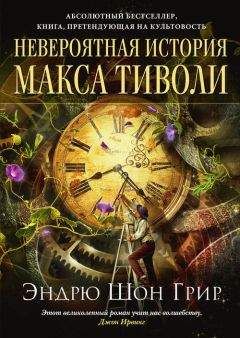лодке повезут в ресторан. Припарковавшись (и выслушав визгливое напоминание гарпии), он обводит взглядом горстку туристов на причале и среди них – хотя лицо ее закрыто прозрачным зонтиком – узнает свою мать.
«Артур! Привет, малыш. А я вот устроила себе небольшой отпуск, – наверняка скажет она. – Ты тут не голодаешь?»
Мать поднимает зонтик чуть выше; его прозрачная перепонка больше не размывает ее черты, и она оказывается японской женщиной с платком его матери на голове. Оранжевым в белых морских гребешках. Как он попал сюда из могилы? Впрочем, нет, не из могилы; из делавэрского центра Армии спасения, куда они с сестрой отдали мамины вещи. Все делалось в такой спешке. Сначала опухоль росла очень медленно, а потом очень быстро, как чудовище из кошмара, а потом он уже стоял в черном костюме и беседовал с теткой. И краешком глаза видел платок на деревянном крючке для одежды. В руках он держал кесадилью; как всякий неверующий БАСП [135], он понятия не имел, что делать со смертью. Пылающие ладьи викингов, и погребальные обряды кельтов, и бурные поминки ирландцев, и молитвы пуритан, и гимны унитариев – две тысячи лет традиций, а он все равно остался ни с чем. Как-то так вышло, что от этого наследия он отрекся. Поэтому Фредди, который давно оплакал собственных родителей, взял все хлопоты на себя, и, когда Лишь, пьяный от банальностей и чистого ужаса, приковылял из церкви, его ждал готовый мексиканский пир. Фредди даже нанял человека, который принял у него плащ. А сам все время молча стоял у Лишь за спиной – в том самом пиджаке, который Лишь купил для него в Париже, – касаясь ладонью его левой лопатки, будто подпирая картонный манекен на ветру. Один за другим подходили люди и говорили, что его мать обрела покой. Ее подруги: седые, с причудливыми укладками и завивками, экспонаты на цветочном шоу. «Она в лучшем мире». «Как хорошо, что она ушла так спокойно». Когда последняя удалилась, Фредди прошептал ему на ухо: «Твоя мать умерла жуткой смертью». Юноша, которого он встретил на вечеринке много лет назад, не нашел бы таких слов. Лишь обернулся и заметил на коротко остриженных висках Фредди первые проблески седины.
Он так хотел сохранить тот оранжевый платок. Но закрутился в водовороте дел. А платок затесался в кипу на благотворительность и исчез из его жизни навеки.
Но нет, не навеки. Жизнь его все-таки сберегла.
Когда Лишь вылезает из машины, к нему подходит молодой человек в черных одеждах с огромным зонтом наготове, тоже черным; серый костюм нашего героя в бисеринках дождя. Платок его матери скрылся в дверях магазина. Лишь поворачивается к реке, где его уже поджидает темная неглубокая лодка Харона.
Ресторан стоит на скале у реки, древний, весь в разводах, мечта художника и страшный сон строителя; кое-где стены покоробились от влаги, а бумага на них сморщилась, как страницы книг, оставленных под дождем. Не пострадали в этой бывшей гостинице только черепичная крыша, широкие потолочные балки, резные украшения и раздвижные перегородки. У входа его с поклоном приветствует высокая статная дама. Во время осмотра гостиницы они проходят мимо окна с видом на обширный обнесенный стенами сад.
– Этот сад разбили четыреста лет назад, когда здесь росли тополи. – Дама обводит панораму рукой. Лишь одобрительно кивает.
– И куда они утопали? – спрашивает он.
Пару мгновений она вежливо смотрит на него, затем идет дальше. Он следует за колыханием золотисто-зеленого кимоно. У входа в другое крыло она снимает деревянные сандалии, а он расшнуровывает и стаскивает туфли. В них песок: из Сахары или из Кералы? Дама подзывает шмыгающую девочку-подростка в синем кимоно, и та ведет его по увешанному каллиграфией коридору, который, словно в Стране чудес, начинается с гигантского дверного проема, а заканчивается таким крошечным отверстием, что девочке приходится опуститься на колени. Очевидно, от Лишь требуется то же самое. Чтобы он проникся смирением. К этому моменту смирение ему хорошо знакомо; это единственный багаж, который он не потерял. В комнате: маленький столик, бумажные стены и старинное окно, в котором, как мираж, расплывается сад. На стенах тускло поблескивают крупные золотые и серебряные снежинки; дизайн относится к периоду Эдо [136], сообщает девочка, когда в Японии появились микроскопы. До этого никто не знал, как на самом деле выглядит снежинка. Лишь усаживается на подушку возле золотой ширмы. Девочка уходит. Она силится задвинуть за собой дверь, но после многовековых терзаний конструкция едва работает.
Лишь окидывает взглядом золотую ширму, бумажные стены, стилизованные снежинки, одинокий ирис в вазе под картиной с оленем. Единственный звук – шепот увлажнителя воздуха у него над ухом; при всей девственности комнаты и красоте пейзажа никто не удосужился содрать с приборчика наклейку «Качество “Дайничи”». За окном: зыблется сад. Артур Лишь вздрагивает. Это он.
Должно быть, миниатюрный садик из его детства создали по образу и подобию этого четырехсотлетнего сада, потому что они не просто похожи – они идентичны: вот мшистая каменная дорожка бежит между лохматых зарослей бамбука, а потом теряется, словно в волшебной сказке, среди далеких темных сосен на склоне горы, где обитают тайны (это иллюзия, ибо ему прекрасно известно, что там обитает воздухообрабатывающий агрегат). Вот какое-то движение в траве – должно быть, это ручей; вот стертые каменные ступени – должно быть, они ведут к храму. Вот бамбуковый фонтан с коромыслом, по которому вода стекает в каменный резервуар, – всё один в один. Колышутся сосны; колышутся листья бамбука; и на том же ветру, подобно флагам, колышутся воспоминания в голове Артура Лишь. Он помнит, что и правда нашел ключ (стальной, от сарая для газонокосилки), но дверь в таинственный сад так и не отыскал. Абсурдная детская фантазия. Сорок пять лет прошло. И все же: это он.
Сзади доносится шмыганье; девочка никак не отодвинет дверь, будто это валун у входа в гробницу. Обернуться у него не хватает духу. В конце концов дверь поддается, девочка заходит в комнату и ставит перед ним поднос с чаем и блестящую плетеную корзинку. Затем достает потрепанную карточку и читает вслух: по всей видимости, по-английски, хотя больше похоже на бормотание спящего. Но перевод ему и не нужен; это его добрая знакомая лимская фасоль. Девочка улыбается и уходит. Новый поединок с дверью.
Он заносит в блокнотик все, что видит перед собой. Ему кусок в горло не лезет. Оранжевый платок, сад… кто вытащил эти воспоминания на свет божий? Что это: гаражная распродажа его жизни? Он тронулся умом или все есть отражение? Лимская фасоль, полынь, платок, сад; может, это зеркало, не