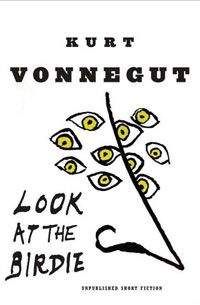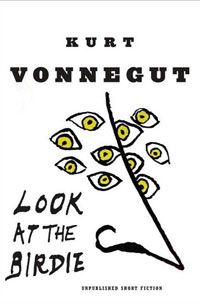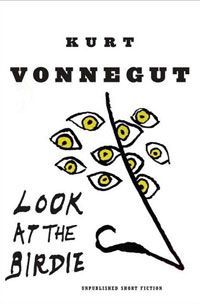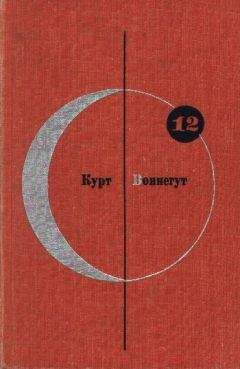они все продали и махнули на жительство в Германию.
Кое-кто из их детей был моим ровесником, и когда Америка ввязалась в войну и я пехотинцем отправился в Европу, меня какое-то время мучил вопрос: не придется ли мне стрелять в кого-то из моих корешей? Насколько я знаю, до этого дело не дошло. Позже мне стало известно, что большинство этих молодых бундовцев, принявших немецкое гражданство, загремели пехотинцами на русский фронт. Кому-то досталась мелкая разведывательная работа, им приказали потихоньку внедриться в американские войска, но таких оказалось мало. Немцы им ни черта не доверяли — по крайней мере именно это написал отцу один из бывших соседей с просьбой о поддержке от Американского общества по оказанию помощи. Этот же человек написал, что готов на все, лишь бы вернуться в Штаты — подозреваю, так думали они все.
Когда мы наконец вступили в войну, близость к этой публике и штучки Бунда сделали меня очень чувствительным к моему немецкому происхождению. Наверное, в глазах многих я выглядел придурком, когда распространялся о преданности, о борьбе за правое дело и тому подобной героике. Не скажу, что остальные парни в нашей армии во все это не верили — просто говорить об этом было как-то не модно. Тогда, во времена Второй мировой.
Сейчас, вспоминая ту эпоху, я знаю — наивности мне было не занимать. Помню, к примеру, что я сказал утром восьмого мая, когда война с Германией закончилась.
— Не замечательно ли это? — вскричал я.
— Что не замечательно? — спросил рядовой Джордж Фишер и поднял бровь, будто сказал нечто весьма глубокомысленное. Он почесывал спину о прядь колючей проволоки и скорее всего думал о чем-то другом. Наверное, о еде, сигаретах или даже о женщинах.
Вступать в беседу с Джорджем на глазах у коллег — это был не самый умный поступок. Друзей в лагере у него не осталось, а если кто пытался с ним корешиться, тот рисковал изведать полное одиночество. Все мы крутились на территории лагеря, и Джордж и я случайно — как мне тогда казалось — очутились рядом у ворот.
В нашем лагере для военнопленных немцы назначили его старшим над американцами. Якобы потому, что он умел говорить по-немецки. Джордж, во всяком случае, эту привилегию использовал как следует. Он был намного толще любого из нас — так что, вполне возможно, в ту минуту думал о женщинах. Примерно через месяц после того как нас взяли в плен, все мы, кроме него, эту тему закрыли. Ведь все мы — кроме Джорджа — восемь месяцев жили на одной картошке, поэтому, повторюсь, тема женщин была не более популярна, чем разговор о выращивании орхидей или игре на цитре.
Если бы передо мной явилась Бетти Грейбл и пообещала сделать все, что моей душе угодно, я скорее всего попросил бы ее приготовить для меня сандвич с ореховым маслом и желе. Но в тот день на встречу с Джорджем и мной спешила отнюдь не Бетти, а русская армия. И мы вдвоем стояли у изгиба дороги перед тюремными воротами и слушали, как в долине, начиная подъем в нашу сторону, завывают русские танки.
Большие пушки с северной стороны, которые грохотали целую неделю и трясли оконные рамы нашей тюрьмы, сейчас молчали, а наши охранники за ночь испарились. Раньше на дороге не двигалось ничего, кроме случайных крестьянских повозок. Сейчас там активно суетились люди, они кричали, толкались, спотыкались, бранились — хотели через холмы перебраться к Праге до того, как их схватят русские.
Подобного рода страх легко распространяется среди людей, которым совершенно нечего бояться. Все, кто бежал от русских, вовсе не были немцами. К примеру, помню, как английский младший капрал на наших с Джорджем глазах улепетывал в направлении Праги, будто за ним гнался сам дьявол.
— Эй, янки, шевелитесь! — велел он нам, запыхавшись. — Русские в двух милях отсюда. Вы же не хотите дожидаться их?
Когда ты полуголоден, а к английскому капралу это явно не относилось, тут есть свой плюс: думаешь только о том, как бы поесть.
— Ты все перепутал, братишка, — крикнул я ему. — Если не ошибаюсь, мы с ними союзники.
— Они не спрашивают, откуда ты взялся, янки. Они просто стреляют в кого ни попадя — так, для смеха.
И он скрылся за поворотом.
Я засмеялся и повернулся к Джорджу — тут меня ждал сюрприз. Его короткие толстые пальцы теребили рыжую копну волос, а похожее на луну лицо побелело — он смотрел туда, откуда должны были прийти русские. Лицо его отражало нечто, чего раньше мы никогда не видели: испуг.
До сих пор Джордж всегда был на высоте положения, независимо от того, с кем приходилось иметь дело: с нами или с немцами. Толстокожий, он умел блефовать и мог выкрутиться из любого положения.
Многие из его военных рассказов наверняка произвели бы впечатление на Элвина Йорка. Все мы были из одной дивизии, кроме Джорджа. Он попал в лагерь сам по себе и, по его словам, был на фронте с самого дня высадки союзников. Мы же, совершенно зеленые, попали в плен во время немецкого контрнаступления, проведя в зоне боевых действий всего неделю. Джордж успел понюхать пороху и претендовал на уважение. Он его получал — ему завидовали, но уважали. Но все это прошло, когда убили Джерри.
— Еще раз назовешь меня стукачом, приятель, я тебе всю рожу расквашу, — сказал он одному парню, чей шепоток случайно подслушал. — Сам знаешь, будь у тебя возможность, ты сделал бы то же самое. Охранники — придурки, я этим пользуюсь. Они думают, я на их стороне, вот и относятся ко мне хорошо. Вам-то что, хуже от этого? Нет. Ну и не лезьте не в свое дело.
Это случилось через несколько дней после побега, когда Джерри Салливена убили. Кто-то предупредил охрану о побеге. По крайней мере на это было очень похоже. Они ждали по ту сторону забора, у устья тоннеля — и Джерри вылез первым. Они могли и не стрелять в него, но выстрелили. Возможно, Джордж ни о чем охрану не предупреждал, но все мы в этом сильно сомневались — когда его не было поблизости.
Никто ничего не сказал ему прямо в лицо. Джордж ведь был крепыш и здоровяк, если помните, и продолжал наращивать мясо и дурной нрав, а мы потихоньку превращались в анемичные огородные пугала.
Но сейчас, с приближением русских, Джордж