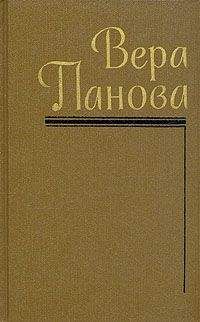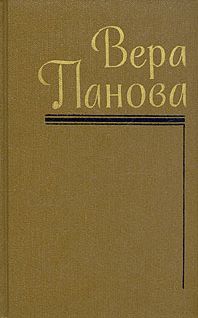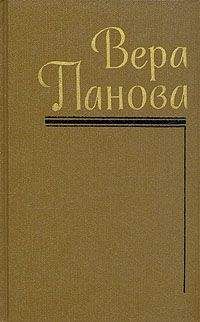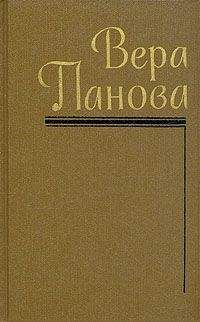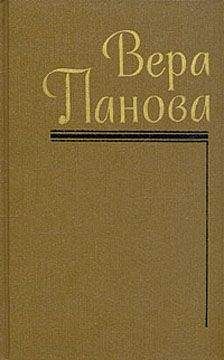- Что-то понесла Кузьминична в мешке, - сообщила я няне.
- А известно что, - сказала няня. - Семечки. Так под ними и падет, помрет, бедняга.
Я не знаю, как умерла Кузьминична. Вскоре после революции семечниц на улицах стало меньше. Настолько меньше, что непонятно, откуда же население брало семечки, чтобы лузгать. Потому что лузгать стали, как ни странно, не меньше, а больше
Р О С Т О В-Н А-Д О Н У
ЛОДКИ И ГАРМОШКИ
В дни моего детства на правом, городском берегу Дона в определенных, всему Ростову известных местах лежали килем вверх лодки, сдававшиеся напрокат. На них были написаны разные имена: "Нюра", "Леля", "Тамара", "Жора", "Женя". Было даже имя "Люлю", взятое из популярного романса, и вообще тщательно перебраны все святцы. К каждой лодке прилагались весла. Тут же поблизости можно было взять напрокат гармошку, если не имелось своей собственной. Потому что кататься по Дону без гармошки, особенно в воскресный день, считалось не только не шикарным, это был признак неустроенности, бедности, у многих это считалось почти унижением своего достоинства.
Итак, воскресный день, блещущий Дон покрыт веселыми треугольными парусами яхт, иногда проходит, заставляя яхты уступать себе дорогу, весело пенящий воду пароход, но всего больше на реке легких лодок, взлетающих весел и вперехлест звучащих гармошек, наяривающих тогдашние чувствительные уличные песни.
Е Й С К
САДЫ
Я приехала в Ейск в 1928 году на тамошние целебные грязи и поселилась в дачной местности, называвшейся Сады, в домике крохотной веселой старушки гречанки Вазео. Это были не просто дачи, но именно сплошные плодовые сады, под ветвями которых тут и там стояли маленькие домики.
Должно быть, это было прекрасно весной, когда сады цвели. Я приехала в июле, когда уже созрели абрикосы, это тоже было хорошо. Все деревья огромного сада были усажены ярко-желтыми, с подрумяненным бочком, спелыми плодами.
Ветер качал деревья, по утрам желтыми плодами с подрумяненным бочком были усыпаны трава и дорожки. Надо было подбирать плоды и складывать в высокие корзины, расставленные на дорожках. Из Ейска приезжали скупщики, на подводах увозили эти корзины. Когда корзины переносили на подводы, сквозь сплетение прутьев донышка на землю бежал золотой сок.
Сады стлались до самого лимана. Бледно-голубой, он стелился под солнцем серебристо и шелково. Мелкая волна набегала на песок, иногда вынося маленькую рыбку. Ступишь, бывало, в эту волну - уколет холодом. Снулые рыбки были раскиданы по берегу вперемежку с абрикосовыми косточками.
Н Е В И Н Н О М Ы С С К А Я
ПОДСОЛНУХИ
Впервые я разглядела их как следует в станице Невинномысской, куда меня послала в командировку уж не помню какая газета - не то "Ленинские внучата", не то "Советский пахарь". Был час заката, солнце стояло на западе, я шла по полю подсолнухов лицом к востоку, а подсолнухи, все как один, были повернуты к западу - словно мне навстречу двигалась огромная несокрушимая рать с одинаковыми черными ликами, окруженными золотыми нимбами. Не было ни малейшей возможности ни повернуть вспять это грозное войско, ни лишить его святости его сияния, ни противостоять ему.
А Р М А В И Р
ДУШНО БЫЛО НЕИМОВЕРНО
В Армавире должны были судить кулаков, покушавшихся на убийство селькора Акулины Брилевой. Редакция "Советского пахаря" командировала меня на этот процесс.
Я написала о нем отчет для газеты, написала брошюру (она вышла в Ростове в 1929 или 1930 году), какие-то черты этой истории вошли в "Сентиментальный роман", в историю Марии Петриченко, но самое главное ощущение от этого процесса еще нигде не описано. Это было ощущение непереносимой духоты, разлитой во всем - в воздухе зала суда, в произносившихся там речах, в подробностях покушения, даже в одежде людей в тулупах, тяжко пахнувших овчиной, в платках, туго обмотанных вокруг женских голов, в сапогах, словно высеченных из камня или отлитых из чугуна.
Ни одна форточка не была открыта, и все же казалось, что степной летний зной вливается в зал и затопляет всех, кто в нем собрался, и что облегчить этот зной не сможет даже хорошая степная гроза с ее громовым ливнем.
В Брилеву стреляли из обреза, она была опасно ранена в живот, но так велика была в ней сила жизни, что она, орошая своей кровью степные сугробы, в жестокий мороз и вьюгу доползла до своего хутора, до своей хаты и осталась жить. Эта богатырская сопротивляемость была заключена в самой простенькой, какую можно себе представить, степной женщине с самым обыкновенным бабьим лицом, по которому текли слезы, когда она отвечала на вопросы суда.
У нее было непоколебимое убеждение, что революция совершилась для нее и таких же неимущих, как она, и она старалась оттеснить имущих отовсюду, куда они проникали. Своими заметками она засыпала газеты, краевые и центральные, ее борьба была неуемна и безгранична, как степные просторы Кубани, за это-то и стреляли в нее из обреза, жестокого оружия степных боев. И потому-то столько людей из кубанских станиц и хуторов съехались на этот процесс, и смотрели и слушали они так, словно на этом суде решалась не судьба нескольких кулаков и подкулачников, а судьба всей кубанской степи, зной которой они принесли в складках своей одежды, хлебом и салом которой они время от времени закусывали, доставая их из-за смушковых отворотов тулупов.
Смушки были те, о каких писал Гоголь: "Бархат! Серебро! Огонь!" Степь была та, о которой сказал Чехов: "воткни оглоблю, вырастет тарантас". Кому она будет принадлежать со своими грозами, со своей пшеницей, салом и смушками, кому она будет принадлежать, щедрородящая, Акулине Брилевой или ее врагам, - такой решался вопрос на том армавирском суде, потому текли такие большие слезы по мягким щекам Акулины, потому так напряженно-душно было в зале.
С О Р О Ч И Н Ц Ы
ЯРМАРКА, ТА САМАЯ
Да, я побывала на Сорочинской ярмарке, той, которую Гоголь выбрал фоном для своей повести. Мы шли из Шишак в Сорочинцы пешком, сначала по широкой пыльной улице, потом улица перешла в такой же широкий и пыльный шлях, над шляхом было неоглядное небо, пышными грудами в нем плыли облака. На пыли оставались отпечатки наших ног. Может быть, и отзвук наших голосов остался там в воздухе. Ведь та тишина отнюдь не была мертвой, она звенела птичьим гомоном и постукиванием сухих головок бессмертника друг о дружку, и сквозь легкие эти звуки нет-нет да прорывался откуда-то человеческий голос - не голос ли того, кто прошел перед нами по этому шляху...
Мы перешли через какую-то канавку по деревянному мостику с выгнутыми перильцами, и перед нами на зеленом лугу запестрела, заиграла ярмарка. Прежде всего бросилась в глаза огромная свинья, розово-белая гора сала и мяса, это так и должно было быть, подумалось мне, недаром свинья играет такую большую роль в гоголевских повестях. За свиньей тянулись скамьи, уставленные гончарными изделиями, дивной красоты горшочками и глечиками (кувшинчиками), покрытыми росписью. Тот горшочек был расписан травами, тот - цветами, тот - козлиными мордами. Были горшочки совсем крохотные детские игрушки, были высокие статные кувшины, были громадные квашни, в которых можно было заквасить тесто на пять пудов печеного хлеба.
И мука продавалась тут же, ее продавали в мешках и в "рукавчиках". Отпоротый от рубашки рукав был там общепринятой мерой, столько-то стоил "рукавчик" пшеничной муки, столько-то - "рукавчик" ржаной.
Женщины продавали свои изделия - вышитые скатерти, сорочки, полотенца, тканые шерстяные пояса, кошели, ковровые дорожки. Нынче лучшие из этих изделий идут на экспорт, а тогда все это можно было купить на Сорочинской ярмарке.
Луг был заполнен веселой нарядной толпой. Сколько тут топталось зеркально начищенных сапог, отражавших солнце. Сколько было плахт, одна пестрей другой, - в те времена тамошние женщины еще носили плахты. Правда, самые богатые плахты были уже у старух, молодые довольствовались тем, что досталось в наследство от бабок и прабабок; ткать плахты еще умели, но секрет изготовления долговечных красок из трав был уже утерян, не знаю, отыскан ли ныне снова... А что это были за краски, помнят, вероятно, все, кто хоть чуть-чуть, подобно мне, соприкоснулся со старой Украиной. Эти краски не линяли и не выгорали, и вытканным из овечьей шерсти - "волны" плахтам не было износу, как лучшим персидским коврам.
В такие-то богатые плахты были одеты женщины на ярмарке, и я почувствовала себя золушкой в своем городском платьишке, без роскошных сапог, без связки бус на шее.
В первый раз мне открылась прелесть традиционной деревенской одежды, украшающей и возвеличивающей человека. Впоследствии, когда я писала мою "Ольгу", одной из первых моих забот было одеть ее соответственно ее положению и значению, и мне приятно вспомнить, сколько поисков я предприняла для этого. Сколько пришлось фантазировать, переиначивать, додумывать. Красная и зеленая тесьма на суконном платье маленькой Ольги это, безусловно, воспоминание о плахтах, виденных на Сорочинской ярмарке летом 1931 года. Мне жалко, что сейчас там носят мини-юбки и туфли на каблуках-шпильках. Хотя я и понимаю, что иначе и быть не может, что все меняется и должно меняться...