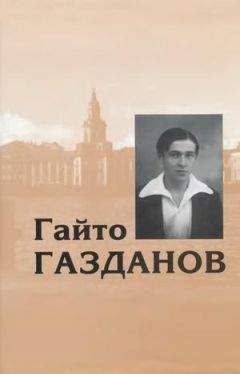Но Володя ни с кем не мог поделиться этими мыслями, потому что никто из присутствующих не знал ничего ни о революции, ни о виселицах, ни о Пугачеве. Только Александр Александрович, который тоже заметил Володю, мог бы его понять. Когда лекция кончилась, Володя быстро подошел к нему и лишь в эту минуту понял, как он рад его видеть.
– Александр Александрович! Смотрю и глазам не верю.
Он крепко жал руку Александра Александровича и громко говорил по-русски. Александр Александрович не успевал отвечать.
– Бели бы вы знали, как я рад! Настоящий, живой, русский Александр Александрович! А помните Севастополь и Приморский бульвар?
Володя почувствовал, пожав руку Александра Александровича, что есть нечто, не изменившееся, неиспортившееся за эти девять лет – и так же, как в Севастополе, над бесконечной перспективой Черного моря, открывавшейся со скалы, на которой они сидели летними жаркими вечерами, – здесь, в Париже, за тысячи верст от этих мест, опять точно севастопольский воздух наполняет грудь. И Александр Александрович, отвечая на его мысль, сказал, проводя в воздухе ломаную линию – все тем же давно знакомым движением:
– Помните, Володя, как изгибается бухта? И какой песок и густой, кожаный цвет листьев на деревьях? И какая свобода! Это мы с вами потеряли. А как ваш брат?
– Женат, отец семейства, процветает.
Они шли по бульвару St. Michel. Александр Александрович рассказал, что он давно в Париже, что он архитектор, что он закончил Ecole des Beaux Arts, – и пригласил Володю прийти к нему поздно вечером.
И потом часто, не вечером, а ночью, Володя приходил к Александру Александровичу, и начинались разговоры – о неразрешимых вещах, о невозможности жить иначе и о многом другом. Однажды Володя рассказал Александру Александровичу об одном из своих первых романов в Константинополе, героиней которого была гречанка, говорившая по-английски, Мэри. Был блестящий под луной Босфор, и ночное купанье, и после купанья – турецкий кофе.
– Обидно, – сказал Александр Александрович. – Обидно, что мы, в сущности, рабы грубейших, несовершеннейших вещей. Я подумал об этом, слушая ваш рассказ.
– Да, Александр Александрович.
– Вот вы говорите – море, ночной воздух, тело, рассекающее воду, и еще, скажем, кофе и Мэри.
– Мэри и кофе, Александр Александрович.
– Мэри и кофе, если хотите. Но дело в том, что вам двадцать лет и ваше тело – идеальный механизм. Поэтому вы влюблены, и вы плывете в лирическом океане: ваши движения неутомимы, сильны и равномерны. Но вот происходит глупейшая вещь: у вас заболевает селезенка, или печень, или еще что-нибудь. Кроме этого, ничто, казалось бы, не изменилось. И вот весь лиризм идет к черту, и то, что было прекрасно вчера – и вообще прекрасно, – становится скучным и ненужным.
Было тихо: Андрэ лежала на диване и внимательно слушала, с трудом понимая русскую речь.
– И возникает вопрос, все тот же самый, по-прежнему, кажется, неразрешимый: какова истинная ценность этих вещей и каково ее положение вне селезенки? Я хочу освобождения, Володя. Если бы мир был организован рационально…
– Как termitiere?[130]
– Как termitiere? Почему непременно как termitiere? Нет, нужно только правильное распределение функций.
Нужны ученые и производители, и не нужно этой ужасной, мучительной смеси. Полная свобода, вы понимаете?
– Понимаю. Гипертрофически развитая голова и хилое тело ученых, чудовищные тела производителей… Нет, Александр Александрович, это было бы ужасно. И потом – что вы сделаете с женщинами?
– Женщины настолько ближе нас к правильному распределению функций, Володя. Elles n'ont que tres peu de chemin a faire[131].
– Александр Александрович! А донна Анна, a lady Hamilton?
– Володя, ведь это все театр. Тяжелый занавес, огромные декорации, тысячи глаз, оркестр и все остальное. Мы внушаем женщине сотни лет все те фантазии, по которым нас ведет наше вдохновение; мы создаем ее тысячу раз, и она только следует за нами в нашем лирическом путешествии. Но ее вообще не существует, это мы ее выдумали. Для чего – я не знаю; думаю, что ответ на этот вопрос лежит в области скорее физиологической, онтологической, если хотите; объяснение – в эволюции культурных форм, во всяком случае это не есть отдельно существующее божество, это даже почти не индивидуальность.
– Я бы согласился с вами, Александр Александрович, если бы тому, что вы говорите, не мог бы противопоставить неопровержимые доводы.
– Какие?
– Исторические, Александр Александрович. – Voyons[132], Володя, ведь эти вещи хрупки, как игрушки. Есть история – статистика; тогда она скучна и произвольна. Есть другая история – это роман, то есть то же самое, что поэзия. Я говорю об исторических методах, с которыми мы имеем дело. А история Рима, например, или вообще история античного мира, это даже не статистика и не роман, это опера, Володя. По крайней мере, в вашем и моем представлении.
Он рисовал карандашом самые разные вещи; он точно издевался над ними, заставлял их оживать на бумаге в своих видоизмененных, мучительных формах, где сочетались его непогрешимое знание внешнего мира и того абстрактного аспекта, в котором они представлялись его чудовищному воображению. Он рисовал скачущих лошадей с короткими ногами и длинным, вытянутым телом, деревья неизвестной породы, выросшие в стране бреда или неведомой людям земли, слепых с тревожно-мертвенным выражением лица. В Севастополе ему поручили расписать церковь: и вот на ее стенах появились сияющие архангелы с грешными женскими глазами, и деспотическое, каменное лицо Саваофа, и мутная, сладострастная прелесть «единственной женщины, познавшей физическое единение с Богом».
Мир звучал для него двумя десятками первоначальных мелодий, он пропускал их бесчисленные изменения, он видел так много и быстро, что ему не оставалось времени слушать.
После первых же парижских разговоров с Александром Александровичем Володя явственнее, чем когда-либо, ощутил тревогу за этого человека. Александр Александрович «душевно задыхался», как сказал Володя Николаю, рассказывая об этих встречах. – Он слишком чувствителен, il n'a pas la peau assez dure[133], – говорил Володя, – чтобы безболезненно переносить ту чудовищную нелепость, мерзость и идиотизм, в которых протекает нормальная человеческая жизнь. – Нам ничего, а он не может.
* * *
Вирджиния чрезвычайно любила порядок и не выносила плохо рассчитанных или непредусмотренных вещей. Все должно было быть предвидено до мельчайших подробностей, до цвета носового платка, до количества и размера пуговиц на платье. За стол надо было садиться именно без четверти восемь, в театр выезжать без двадцати пяти девять; все события следовало обсудить заранее, и при этом детально.
За две недели до пикника Вирджиния начала беспокоиться о провизии: что надо взять и в каком количестве. Володя стал спорить, говоря, что достаточно нескольких сандвичей. Николай настаивал на холодной телятине. Вирджиния не соглашалась ни на то, ни на другое; и, как это ни было странно, в этом вопросе оказалось труднее столковаться, чем в споре о литературе или театре.
Тогда Николай нашел выход:
– Оставьте все заботы, я это устрою. Вирджиния, ты ничего не имеешь против приглашения мистера Свистунова?
– Ты прав, очень хорошо, – сказала Вирджиния.
– Что за нелепость? – спросил Володя. – Свистунов и вдруг мистер. Какой же он, к черту, мистер, если он Свистунов? И кто он такой вообще?
– Как, ты не помнишь? – сказал Николай. – Это Свистунов, Сережка Свистунов. Он у нас бывал – в Ростове и Севастополе. – И Николай объяснил, что Сережа женился на француженке из Канады и что история его вообще по-учительна. По словам Николая, правдиво написанная история Сережи должна была представляться не как авантюра, не как роман, не как поэма, а как бесконечно длинное меню. Если среди товарищей Сережи бывали разногласия и сомнения по поводу того, что им ближе и интереснее всего – социальные вопросы, искусство или даже коммерция, у Сережи этих сомнений никогда не возникало: ему всегда было ясно, что и общественные вопросы, и искусство могут рассматриваться только как вещи второстепенные и несущественные. Главное же в его жизни, чему он никогда и ни при каких обстоятельствах не изменял, был вопрос о том, что, как и в каком количестве есть.
– Было что-нибудь страшное в твоей жизни? – спросил его однажды Николай. У Сережи была круглая голова, кожа розовая – как уши маленького поросенка, по определению Вирджинии, – мечтательные черные глаза, очень широкая и высокая грудь и крепкое короткое тело.
– Я пережил необычайные, да, прямо страшные страдания, – нахмурившись при одном воспоминании об этом, сказал Сережа. – Нечеловеческие. Я был болен брюшным тифом, и мне не давали есть. Я был близок к самоубийству.