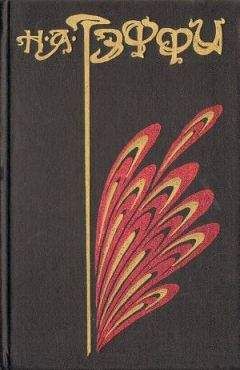Лелька задрожал и вскрикнул.
Подошла мать.
– Олень. Млекопитающее, – сказала она. – Пора домой – ты весь посинел.
Дома Буба стала играть в Зоологический сад и представляла черепаху, ползая по дивану. Лелька не мог играть, сидел один и томился.
На другой день после обеда вынесли маленького в гостиную. Все собрались вокруг, улюлюкали. Лелька подошел тоже и, как все, щелкнул языком и сказал:
– У-лю-лю!
Приятно чувствовать свое превосходство. Могу, мол, говорить и по-настоящему, да ты не поймешь.
Послали в детскую за погремушкой. Лелька пошел.
В детской было тихо, особенно. Он никогда не видел эту комнату пустой, – там всегда спал, или кричал, или купался маленький. А теперь тихо.
Форточка была открыта и чуть-чуть постукивала. Тоскливо. Сумерки, как свет тающего снега, томили тоской. Что-то, чего не видно, притаилось здесь где-то и мучается.
– Олень! – вспомнил Лелька.
Он почувствовал, что олень здесь. Чувствует, словно видит. Рога длинные, ветвистые, давят и ломят голову, ножки сдвинуты, а глаза тоскуют на розовую полоску печального неба…
Лелька прибежал в гостиную без погремушки и ничего не ответил няньке.
На четвертой неделе поста водили в церковь исповедоваться. Лелька ничего не сказал священнику, а вернувшись домой, плакал.
Мать увидела, приласкала мельком.
– О чем, глупыш, убиваешься?
Он заторопился и, не глядя в глаза, тихо сказал:
– У меня есть одна тайна!
– Какая тайна? У детей от родителей не…
– Я боюсь оленя.
– Оленя? Что за вздор! Где же здесь олень?
– Там! – отвечал Лелька, показывая рукой в гостиную. Он чувствовал, что все равно, куда показывать. – Там.
– Какие глупости! – удивилась мать. – Как же мог олень залезть на четвертый этаж?
Она отстранила Лельку и встала.
– Олень четвероногое, млекопитающее. – И, уходя, прибавила:
– Очень полезное животное.
Лелька худел. Лицо у него стало острое, как у мыши. Сидел в углу и думал об олене. Как он стоит, сдвинув ножки, как сладко ему от муки и от розовой полоски.
Стал сам уходить в детскую, слушал, как хлопает форточка, дышал сумерками талого снега и ждал оленя. Чувствовал его, но видеть не мог.
– Чего ты такой? – спрашивали.
– Ху-удо мне! – тянул он весь день.
– Надо желудивым кофеем поить, – бубнила нянька. – У Корсаковых всех детей желудивым кофеем поили. Вот и были здоровы.
Три дня перед Пасхой все ходили сердитые. Мыли, чистили, попрекали друг друга, готовили.
В субботу вечером Лелька зашел в кухню. Там злая, красная кухарка поворачивала на плите какой-то кусок, который шипел и плевался.
Лелька юркнул на черную лестницу, подошел к раскрытому окну и взобрался на подоконник.
– Ах!
Тягучий запах гнилой земли, и белый сумрак, и там вдали розовая полоска, тусклая, но та самая. И та же самая сладкая тоска, как тогда у него, у оленя.
По лестнице поднимался рослый парень в белом переднике, с окороком ветчины на голове. Взглянул на Лельку и вошел в кухню.
– Самолучшей кухарочке самолучшие подарочки, – загудел и звякнул его голос, как медная посудина.
– Прилетела пава! – затянула кухарка. – Ни раньше, ни позже, а непременно, когда не нужно!
Лелька встал на колени и перегнулся вниз.
В ушах звенели радостные тихие колокольчики.
– Какетка! – звякал парень. – От самой давно панафидой пахнет! А туда же!
Зазвенели колокольчики, и ласковая печаль протянулась ближе.
– Олень! Аль-лень! Аль-лень!
– Это ваш мальчишка на лестнице на окно залез? – спрашивает парень.
Кухарка выглянула.
– Чего врешь? Никого тут нету.
– Ну нету так нету.
– И не было.
– Не было так не было.
Кухарка подошла к окну, провела ладонью по подоконнику.
– Место гладко. Ничего. Ну? Проваливай! Чего стоишь? Лезут тоже… ни раньше, ни позже…
Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам.
Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий, и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.
Вечером девочки побежали делать к завтрему букеты: в Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.
– Ты чего! – крикнула Варя. – Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.
– Сам-то ты букет! – поддразнила Катя-младшая. Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался.
Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.
– Чтоб насквозь тебя через голову не продувало.
Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, в густую траву, чтоб не завяли до завтра.
Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша, точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.
Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в гости.
Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь, с неведомыми опасностями.
Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, – да мало ли еще что, – пока не надоела и не перешла к Грише.
Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под плевальницу.
Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.
Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было – не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла, вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтоб пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая спичечка.
Гриша подумал:
– Ишь, кто-то уж поселился…
И на цыпочках пошел домой.
– Там кто-то поселился, – сказал он сестрам.
– Сам-то ты поселился! – поддразнила Катя.
В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке.
Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.
– Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру. – Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку, и что мучится теперь курок один под плевальницей.
Тихонечко поплакал и заснул.
Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе; Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась.
Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Троица, и нужно, чтоб все было новое и красивое.
Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда.
– За одну ночь чужим стал! – упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.
По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет.
Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится – и закусить нечем.
Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит.
Гриша смотрел на девок, на их корявые, красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как бог будет их на том свете наказывать.
– Подлые, скажет, как вы смели воровать!
Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.