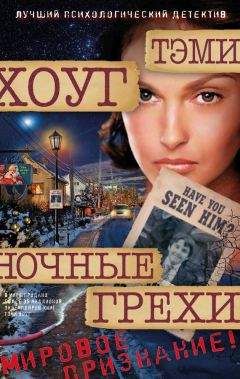опущенной головой, недвижный, точно какая-то вещь – может быть, тюк одежды? У него был жалкий вид, на лице отпечатались безжалостные следы времени. Я молча поглядывал на него и вспоминал рассказы отца, думая: вот, этот человек когда-то был молодым, молодым и талантливым, героем специального отдела, тем, кто внес великий вклад в работу 701-го. А теперь он постарел, превратился в ментального инвалида, сжался под давлением беспощадных лет, истончился до костей (он был страшно худ), сточился, как камень бегущей водой, как легенда людскими поколениями – до лаконичного чэнъюя. В полумраке столовой он казался древним, пугающе древним, столетним стариком, который может покинуть нас в любую минуту.
Сперва он не поднимал головы и не замечал, что я за ним наблюдаю; он доел, встал и уже собирался уйти, как вдруг наши глаза случайно встретились. Его взгляд загорелся, словно он внезапно ожил, и он медленно, шаг за шагом, как робот, двинулся на меня. Лицо его омрачало горе, он походил на нищего, который бредет к своему благодетелю за подаянием. Подойдя ко мне, он уставился на меня неподвижным рыбьим взглядом, протянул руки, как будто вымаливал милостыню, и с трудом выговорил дрожащими губами:
– Блокнот, блокнот, блокнот…
От неожиданности я перепугался так, что совсем растерялся; к счастью, на подмогу прибежала дежурная сестра. Ведомый и утешаемый медсестрой, Жун Цзиньчжэнь, глядя снизу вверх то на нее, то обратно на меня, то и дело замирая опять на месте, все же пошел к двери и наконец скрылся в темноте.
Уже потом отец объяснил: как только Жун Цзиньчжэнь замечал, что на него смотрят, неважно, кто именно, он тут же подходил спросить про свой блокнот, точно его давняя пропажа крылась там, в чужом взгляде.
– Он до сих пор его ищет? – спросил я.
– Да, до сих пор, – сказал отец.
– Так ты же говорил, что блокнот нашли?
– Нашли. Но ему-то откуда знать?
Я не сдержал изумленного возгласа.
Я думал, что Жун Цзиньчжэнь, ментальный инвалид, человек, лишившийся рассудка, утратил, конечно, и память. Но вот что странно: он помнил потерю блокнота, она слишком глубоко засела в его душе, отпечаталась на сердце. Он не знал, что блокнот нашли, не подозревал о жестоком беге времени. У него ничего не осталось – только кости и последнее воспоминание, и одну зиму за другой он с присущей ему настойчивостью все искал и искал свой блокнот, и так уже двадцать с лишним лет.
Вот что стало с Жун Цзиньчжэнем.
Что будет дальше?
Случится ли чудо?
Все может быть, думаю я грустно. Все может быть.
Знаю, если вы из тех, кто любит загадку, если вы склонны к мистицизму, вам сейчас хочется – нет, вы даже требуете, чтобы я завершил на этом роман. Но дело в том, что многие читатели, большинство читателей – простые люди, которые любят дознаваться до сути, ценят ясность, им интересно узнать судьбу «Черного шифра», на сердце у них осталась трещинка (такие трещинки появляются, когда ты чем-то недоволен). Это третье, что побудило меня написать заключительные главы.
Итак, следующим летом я отправился в А. с намерением посетить 701-й отдел.
Время поистрепало не только алую краску главных ворот 701-го, но и саму тайну этого места, его величие и покой. Я раньше думал, что туда так просто не попасть. Но часовые лишь проверили мои документы (удостоверение личности и корочку журналиста), велели мне расписаться в какой-то тетрадке с загнутыми уголками страниц и пропустили внутрь. Это было настолько легко, что казалось странным, и я уже заподозрил было караульных в нерадивом отношении к своей службе. Но как только я прошел через ворота, мои подозрения рассеялись: во дворе стояли овощные палатки, слонялись сезонные рабочие, так беспечно и свободно, как будто и не было тут никакой секретной организации, а была самая обыкновенная деревня.
Мне не нравился облик 701-го из легенд, но мне не пришелся по вкусу и его нынешний вид. Было ощущение, словно я шагнул, а под ногой оказалась пустота. Позже, правда, я узнал, что у 701-го есть тайный «двор во дворе», я-то попал в новую жилую зону, а вот «двор во дворе», как пещеру внутри другой пещеры, я сам вряд ли нашел бы, а даже если бы и нашел, никто бы меня туда не пустил. Часовые там похожи на призраков, что вдруг возникают перед тобой из ниоткуда, и от них веет гнетущим холодом, как от ледяных статуй. Они запрещают тебе приближаться к ним, будто боятся, что тепло твоего тела растопит их, будто они и впрямь слеплены из снега и льда.
Я провел в 701-м около десяти дней и, как вы понимаете, встретился с Василием, чье настоящее имя Чжао Цижун. Я увиделся и с немолодой женой Жун Цзиньчжэня, Ди Ли – она до сих пор работала на прежнем месте. Годы несколько подточили ее высокий рост, но она все равно казалась выше и крупнее многих. У нее не было ни детей, ни родителей; по ее словам, для нее ребенком и родителем стал Жун Цзиньчжэнь. Теперь, сказала она, ее огорчало лишь то, что нельзя уйти раньше срока со службы (из-за специфики ее работы). Выйдя в отставку, она собиралась перебраться в «Линшаньскую здравницу», чтобы каждый день проводить с мужем. Пока что она могла навещать его только во время отпуска, по месяцу-два в год. Не знаю отчего, то ли от многолетней работы в секретном отделе, то ли от долгой жизни в одиночестве, но она производила впечатление человека еще более отстраненного и молчаливого, чем Жун Цзиньчжэнь из легенд. Честно говоря, что Василий, что жена Жун Цзиньчжэня не слишком-то мне помогли, им, как и другим сотрудникам 701-го, не хотелось ворошить печальное прошлое Жун Цзиньчжэня, и даже когда удавалось их разговорить, они постоянно путались в деталях, словно печаль отняла у них память, и они не только не хотели откровенничать, но и попросту не могли. Возможно, самый действенный и уместный способ что-либо скрыть – тот, при котором невозможность рассказать служит нежеланию рассказывать.
С женой Жун Цзиньчжэня я разговаривал вечером, но так как я мало что от нее добился, я достаточно быстро вернулся в гостиницу. Вскоре после возвращения, как раз когда я делал кое-какие пометки в блокноте (записывал то, что услышал от Ди Ли), ко мне вдруг вломился без спросу незнакомец лет тридцати на вид, представился специалистом отдела безопасности 701-го, назвал свою фамилию, Линь, и принялся