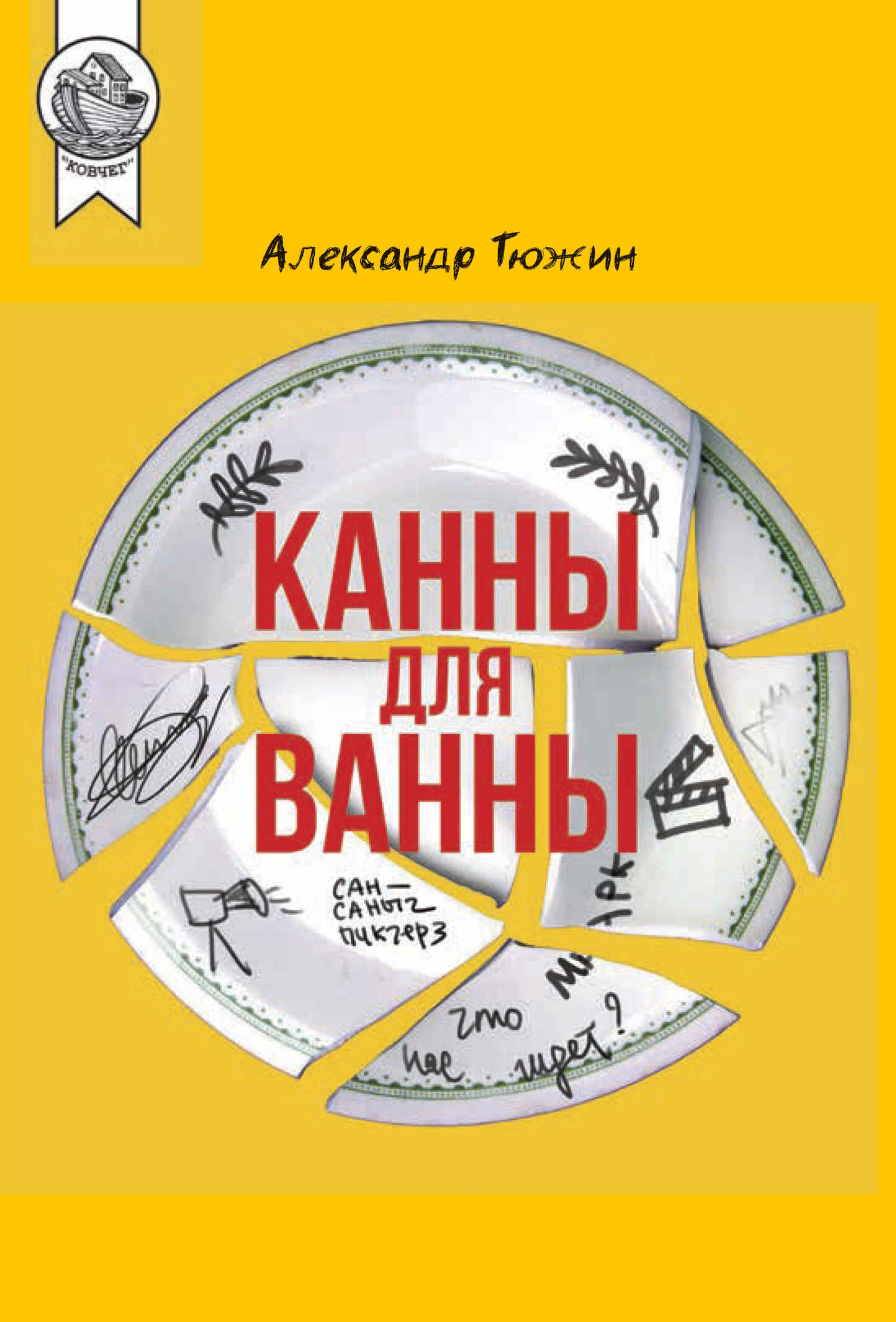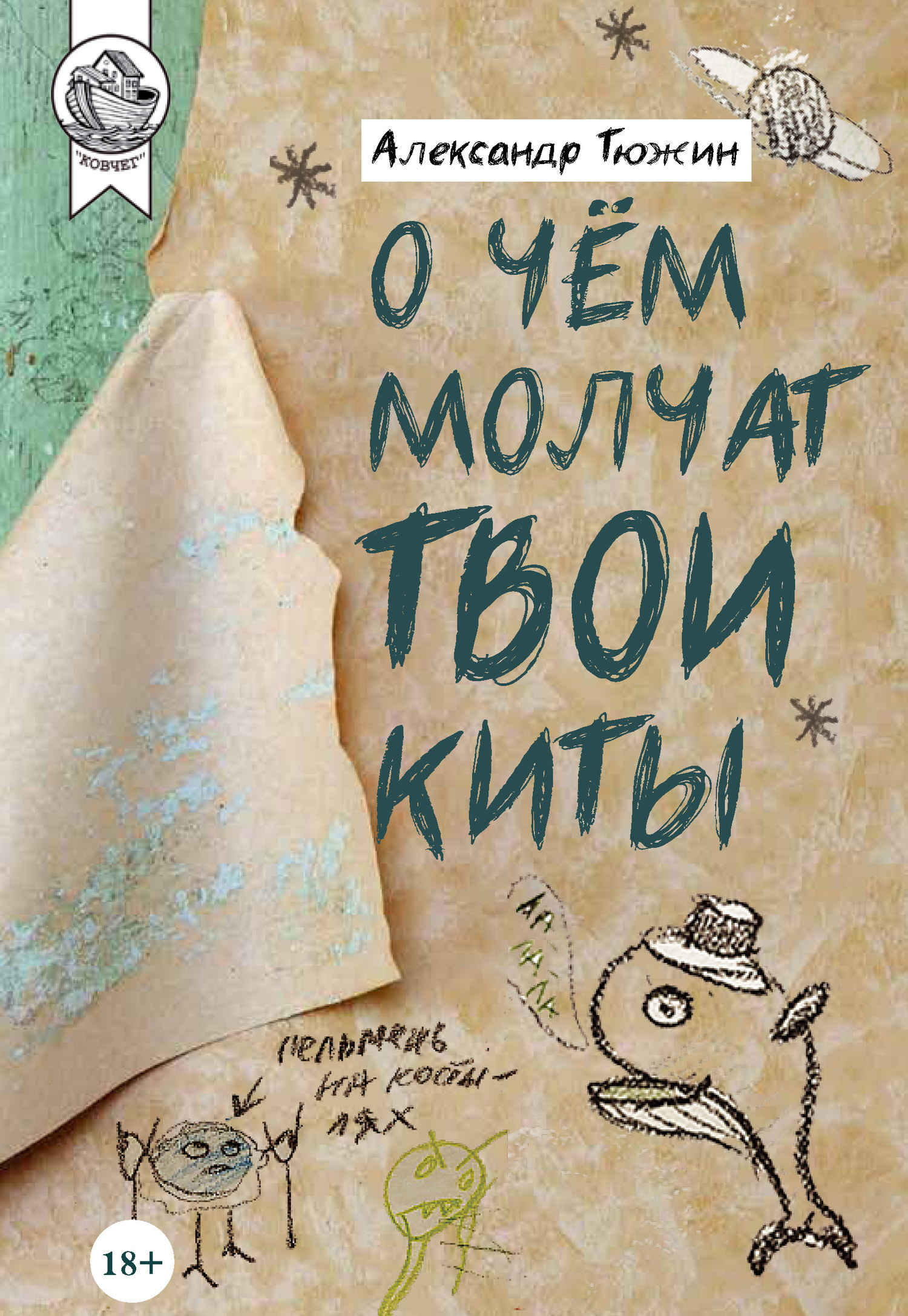что-то прячет. А мне бы как раз уверенность не помешала. То есть такая уверенность, как у остальных, что не будет этого конца света, что можно и дальше жить, причем совсем не так, как раньше, попробовать что-то замутить с Валентиной, снимать кино, делать что-то стоящее, оставить свой след в истории человечества. Не то чтобы я так за жизнь держался, просто сам факт, сам факт того, что больше не доведется никуда ехать с этими балбесами, шутить, встречать разных интересных и не очень людей, пробовать шаурму или что-то другое, смотреть хорошее кино, чувствовать себя молодым и беззаботным, сам факт не мог не расстраивать. Это, как минимум, несправедливо. Зачем тогда это все, чтобы вот так стремительно и беспросветно закончиться? То есть понятно, что все мы умрем так или иначе, но вполне нормально, когда ты знаешь и понимаешь, что смерть неизбежна, и делаешь это один, мир-то остается, а вот так, чтобы все и сразу — это ужасно несправедливо. Черт, а ведь у нас даже такую шаурму не делают. А где-то есть еще вкуснее. А где-то можно с ума сойти от красоты природы или могущества и фантазии человека, но мы этого даже не увидим. И тут меня вдруг так проперло, я понял и суть начальных кадров «Меланхолии», и почему люди так держатся за любовь и любят поржать. Поржать — это прикольно, это отвлекает нас от мыслей о смерти, а любовь так и вовсе не дает ни о чем думать, кроме любимого человека, и, может быть, Олег самый нормальный из нас всех. Он поехал к любимой девушке за тысячу километров да еще согласился, чтобы мы это засняли, а ведь она может послать его на хрен и по-своему окажется права. Никто никому ничего не обязан. Особенно в любви. Но он поехал, поехал, потому что любит. Потому что как не поехать, если скоро нам всем каюк. И у меня защемило в груди. Если падение рубля можно как-то пережить, и мы не раз уже переживали, то падение метеорита уже не исправить. И это хорошо, если метеорит и мгновенный конец, а если все будет медленно? Все, к черту такие мысли. Сейчас у меня в руках вкуснейшая шаурма, вернее, то, что от нее осталось, мы гуляем по Саратову, снимаем крутое кино, и мы счастливы, по-настоящему счастливы.
— Еще, что ли, заказать? — задумался Новиков.
— Хочешь быть, как тот парень?
— Не, не хочу, ну на фиг, не буду заказывать. Наелся.
И мы прошвырнулись дальше по центру. Что ни говори, а Волга хороша. Невозможно хороша. Просто смотришь и радуешься. И гордость испытываешь, что у нас такая великая река есть. И мост хорош. Потому что тоже величие Родины и Волги подчеркивает. Стальной гигант и все такое. Так и патриотом недолго стать.
— Поперли обратно. У тетки лекции должны закончиться.
— Саня, сними меня, — попросил жизнерадостный Новиков. — А это я на фоне крутого моста. Он, это, самый длинный в России или даже в Европе. Здесь Саратов, там Энгельс. Вон видите, махина какая. Вон видишь, даже Олегу нравится.
От смеха Олег даже корзину выронил. Проходящие мимо старушки в малиновых беретах посмотрели на нас с недоумением и на всякий случай прибавили ход.
— И вам хорошего дня. — Помахал им товарищ.
Старушки оглянулись и затопали еще быстрее. Спать будут хорошо.
Тетя Марина была в хорошем настроении:
— Про Есенина сегодня рассказывала. Шаганэ ты моя, Шаганэ, — пропела она.
Олег стоял возле зеркала, поправлял прическу.
— Олег, что ты делаешь? — выпытывал у него Новиков с камерой в руках.
— Расчесываюсь.
— На свидание пойдешь?
— Да.
— Волнуешься?
— Это, нет.
— Совсем, что ли, не волнуешься?
— Нет. — И долго и пристально посмотрел в камеру.
— А что ты ей скажешь? — не унимался Саня.
— Я тебя... — и замолчал.
— Люблю? — подсказал Новиков.
— Люблю, — не сразу повторил Олег.
— А что еще?
Олег молчал.
— Что она самая красивая на свете?
— И что она самая красивая.
— И что ты влюбился сразу, как только увидел ее?
Олег молчал.
— Да че ты прикопался к человеку? — вступился за Олега Марк. — Не видишь, что ли, волнуется.
— Это, не волнуюсь.
— Видишь, не волнуется он. А мы репетируем. И кино снимаем. Мы же кино снимаем? Да, Саня?
— Да,— сказал я. — Саня, ты реально достал.
— Ну, и пожалуйста. — Обиделся товарищ и больше с нами не разговаривал. Впрочем, мы и сами только слушали тетку Марка, видимо решившую познакомить нас со всем творчеством Есенина:
— Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым...
В шесть мы вышли из дома. Сытые, наряженные, довольные. До улицы Чапаева ехать двадцать пять минут, но мы же не девушки, решили быть в семь, значит, придем заранее, а не с полуторачасовым опозданием. Да и Олегу уже не сиделось на месте. Он выглядел немного нелепо с этими искусственными цветами и странноватой улыбочкой. Марина Анатольевна также пыталась его разубедить, заламывала руки и твердила, что нужны живые цветы и исключительно розы, но Олег был непреклонен.
— Это, нет, и все.
С каждым метром, с каждым шагом у меня все больше перехватывало дыхание. Как будто все уже свершилось, фильм снят, его отобрали и, более того, он неожиданно для многих, но, разумеется, не для нас стал фаворитом всего фестиваля. И вот наступил самый волнительный и торжественный момент — момент объявления результатов. Еще секунда, и все узнают, кто же, кто же, черт возьми, получит долгожданную награду. Я отчетливо видел себя в новом, безупречно отглаженном смокинге, чувствовал смешение легкого перегара с дорогим парфюмом, царящие в зале, видел Ларса фон Триера, Кустурицу, любимого Квентина Тарантино, без конца что-то шепчущего на ухо Родригесу и размахивающего руками похлеще бойцов без правил или байдарочников, видел Саню, сидящего рядом и немного прифигевшего от всего происходящего, милую и улыбчивую Киру Найтли, Тима Рота, произносящего со сцены «То, что нас ждет», и загремевшие вслед за его словами аплодисменты. Я видел то, как Новиков подталкивает меня к выходу, а я не сразу соображаю, что нужно встать и подняться на сцену, видел, как мы слегка неуклюже и робко идем с товарищем по залу, а Тарантино смотрит завистливо на меня, продолжая что-то рассказывать