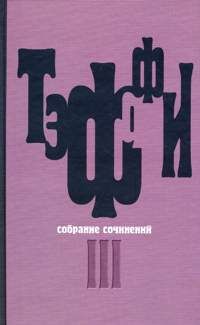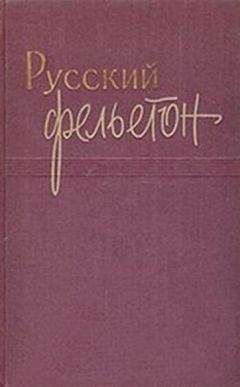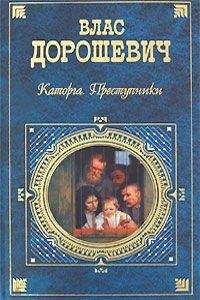Обстановка – кровать, стол, умывальник и два соломенных кресла. Кресла эти, безумно утомленные жизнью, любили по ночам расправлять свои ручки, ножки и спинки со скрипом и стонами.
Водворилась я в новую свою обитель в холодный сухой осенний день, осмотрелась и спросила, сама не знаю почему: «А какой здесь доктор специалист по „испанке“? У меня будет „испанка“ с осложнением в легких».
С Гуськиным дело наладилось, вернее, разладилось отлично: получив аванс из «Киевской мысли», я заплатила ему неустойку, и он, вполне успокоенный, уехал в Одессу.
– Вы ведь не будете работать с Аверченкиным импресарио? – ревниво спросил он.
– Даю вам слово, что не буду ни с ним, ни с кем бы то ни было. Всякие выступления ненавижу. Читала только на благотворительных вечерах, и всегда с большим отвращением. Можете быть спокойны.
Тем более что Аверченкин импресарио очень мне несимпатичен.
– Ну, вы же меня мертвецки удивляете! Такой человек! Вы спросите в Конотопе! В Конотопе его прямо-таки обожают. Дантист Пескин бил его костью от ветчины. Через жену. Конечно, в характере у него нет большой живности, и, пожалуй, даже и некрасив… такие смуглые черты лица… Может быть даже, Пескин бил его не через жену, а по коммерческому делу. А может, и совсем не бил, а он только врет – пусть ему собака верит.
Расстались мы с Гуськиным мирно. И он, уже распрощавшись, снова просунул голову в дверь и спросил озабоченно:
– А вы кушаете сырники?
– Что? Когда? – удивилась я.
– Когда-нибудь, – отвечал Гуськин.
На этом мы и расстались.
Вслед за Гуськиным уехала из Киева Оленушка. Она получила ангажемент в Ростов.
Перед отъездом выразила желание поговорить со мною по душе и попросить моего совета в своих сложных делах.
Я повела ее в кондитерскую, и там, капая слезами в шоколад и битые сливки, она рассказала мне следующее. В Ростове живет Вова, который ужасно ее любит. Но здесь, в Киеве, живет Дима, который также ее ужасно любит. Вове восемнадцать лет, Диме девятнадцать. Оба офицеры. Любит она Вову, но выходить замуж надо за Диму.
– Почему же?
Оленушка всхлипывает и давится пирожным:
– Так надо! На-а-а-до!
– Подождите, Оленушка, не ревите так ужасно.
Расскажите всю правду, если хотите знать мое мнение.
– Мне очень тяжело, – ревет Оленушка. – Это все так ужасно! Так ужасно!
– Ну, перестаньте же, Оленушка, вы заболеете.
– Не могу, слезы сами текут…
– Так, во всяком случае, перестаньте есть пирожные – ведь вы уже за восьмое принимаетесь, вы заболеете!
Оленушка безнадежно махнула рукай.
– Пусть! Я рада умереть – это все развяжет. Но все-таки меня уже немножко тошнит…
Повесть Оленушки, глубоко психологическая, была такова. Любит она Вову, но Вова веселый, и ему во всем везет. А Дима очень бедный и какой-то неудалый, и все у него плохо, и вот даже она его не любит. Поэтому надо выходить за него замуж. Потому что нельзя, чтобы человеку так уж плохо было.
– Нельзя до-би-ва-а-ать!
Тут рев принял такие угрожающие размеры, что даже старуха хозяйка вышла из-за прилавка, сочувственно покачала головой и погладила Оленушку по голове.
– Она добрая женщина! – всхлипнула Оленушка. – Дайте ей на чай!
Через три дня проводили все-таки Оленушку в Ростов. Поезда были переполнены, с трудом достали ей место и снабдили письмом к кассиру на харьковской станции, которому телеграфировали устроить ей спальное место до Ростова.
Через неделю получили от Оленушки письмо, в котором рассказывалась жуткая история, как офицер выторговал себе смерть.
В Харькове оказалось свободным только одно место в спальном вагоне, которое кассир и отдал Оленушке. Стоявший за нею офицер начал требовать, чтобы место это предоставили ему. Кассир убеждал, показывая телеграмму, объяснял, что место заказано. Офицер ни на какие доводы не соглашался. Он офицер, он сражался за отечество, он устал и хочет спать. Оленушка, хотя и с большой обидой, но уступила ему свое место, а сама села во второй класс.
Ночью она была разбужена сильным толчком – чуть не свалилась со скамейки. Картонки и чемоданы полетели на пол. Испуганные пассажиры выбежали на площадку. Поезд стоял. Оленушка спрыгнула на полотно и побежала вперед, где толпились и кричали люди…
Оказалось, что паровоз врезался на полном ходу в товарный поезд. Два передних вагона разбиты в щепы. Несчастного офицера, так горячо отстаивавшего свое право на смерть, собирали по кусочкам…
«Значит, не всегда делаешь людям добро, когда им уступаешь», – писала Оленушка.
Очевидно, очень мучилась, что «из-за нее» убили офицера.
А через месяц телеграмма: «Помолитесь за Владимира и Елену».
Это значило, что Оленушка вышла замуж.
Я начала работать в «Киевской мысли».
Время было бурное и сумбурное. Бродили неясные слухи о Петлюре.
«Это еще кто такой?»
Одни говорили – бухгалтер.
Другие – беглый каторжник.
Но, бухгалтер или каторжник, во всяком случае, он – бывший сотрудник «Киевской мысли», сотрудник очень скромный, кажется, просто корректор…
Все мы, новоприезжие «работники пера», чаще всего встречались в доме журналиста М. С. Мильруда, чудесного человека, где сердечно принимала нас его красивая и милая жена и трехлетний Алешка, который, как истинно газетное дитя, играл только в политические события: в большевиков, в банды, в «белых» и под конец – в Петлюру. Грохотали стулья, звенели чашки и ложки. «Петлюра» с диким визгом подполз ко мне на четвереньках и острыми зубами укусил мне ногу.
Жена Мильруда общественной деятельностью не занималась, но когда пригнали в Киев голодных солдат из немецкого плена и общественные организации много и мирно вопили о нашем долге и о том, как опасно создавать кадры обиженных и недовольных, чутких к большевистской пропаганде, – она без всяких воплей и политических предпосылок стала варить щи и кашу и вместе со своей прислугой относила обед в бараки и кормила каждый день до двадцати человек.
Народу в Киеве все прибывало.
Встретила старых знакомых – очень видного петербургского чиновника, почти министра, с семьей. Большевики замучили и убили его брата, сам он еле успел спастись. Дрожал от ненависти и рычал с библейским пафосом: «Пока не зарежу на могиле брата собственноручно столько большевиков, чтобы кровь просочилась до самого его гроба, – я не успокоюсь».
В настоящее время он мирно служит в Петербурге. Очевидно, нашел возможность успокоиться и без просочившейся крови…
Выплыл Василевский (Не-Буква) с проектом новой газеты. Собирались, заседали, совещались.
Потом Не-Буква исчез.
Вообще перед приходом Петлюры многие исчезли. В воздухе почувствовалась тревога, какие-то еле заметные колебания улавливались наиболее чуткими мембранами наиболее настороженных душ, и души эти быстро переправляли свои тела куда-нибудь, где поспокойнее.
Неожиданно явился ко мне высокий молодой человек в странном темно-синем мундире – гетманский приближенный. Он с большим красноречием стал убеждать меня принять участие в организующейся гетманской газете. Говорил, что гетман – это колосс, которого я должна поддержать своими фельетонами.
Я подумала, что если колосс рассчитывает на такую хрупкую опору, то, пожалуй, его положение не очень надежно. Кроме того, состав сотрудников намечался чересчур пестрый. Мелькали такие имена, с которыми красоваться рядом было бы очень неприятно. Очевидно, колосс в газетных делах разбирался плохо или просто ничем не брезговал.
Я обещала подумать.
Молодой человек, оставив чек на небывало крупный аванс в случае моего согласия, – удалился.
После его ухода я, как Соня Мармеладова, «завернувшись в драдедамовый платок», пролежала весь день на диване, обдумывая предложение. Чек лежал на камине, в его сторону я старалась не смотреть.
Рано утром запечатала чек в конверт и отослала его «колоссальному» представителю.
Кое-кто упрекал меня потом за то, что я «излишне донкихотствую» и даже врежу товарищам по перу, так как своим поступком бросаю тень на газету и тем самым мешаю войти в нее людям более рассудительным, чем я.
Рассудительные люди, во всяком случае, блаженствовали недолго.
К Киеву подходил Петлюра.
10
Приехал Лоло.
Он, как киевский уроженец, оказался «Левонидом», а жена его, артистка Ильнарская, «жинкой Вирой».
Приехали исхудавшие, измученные. Еле выбрались из Москвы. Много помог им наш ангел-хранитель – громадина комиссар.
«После вашего отъезда, – рассказывала „жинка Вира“, – приходил, как пес, выть на пожарище».
Вскоре дошли слухи, что комиссар расстрелян…
Видела несколько раз Дорошевича.
Жил Дорошевич в какой-то огромной квартире, хворал, очень осунулся, постарел и, видимо, нестерпимо тосковал по своей жене, оставшейся в Петербурге, – хорошенькой легкомысленной актрисе.