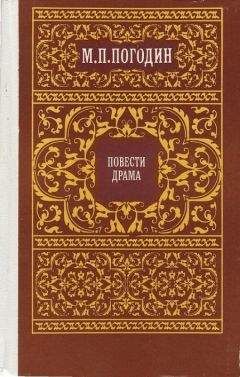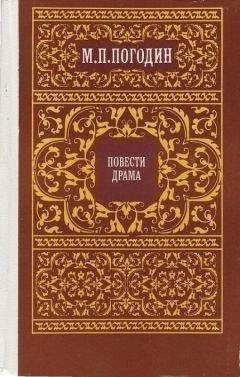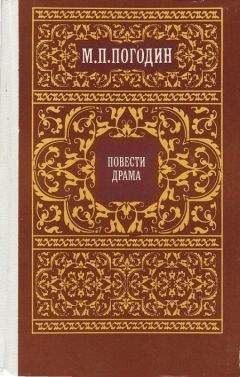— Блажен, — сказал я, — блажен тот, кому слышится ясно в душе его звонок.
— Вам слышится звонок? — спросила она меня, улыбаясь.
— Ваш голос служит мне звонком.
— Нет, без комплиментов, скажите, вам часто слышится звонок?
— Какой?
— Разве есть много их?
— Нет — один, но у нас разные уши, иногда мы слышим сердцем, иногда умом, иногда…
— Вы запутываете вопрос, но я не отстану от вас без ясного ответа. Вы слышите умом?
— Не знаю, я не могу различить еще.
— Здесь нельзя не знать, не скромничайте, да — или нет — умом?
— Да: у меня ум теперь в сердце.
Ах, Всеволод, женщина есть прекраснейшее творение в природе! — Я думаю часто, как мужчины к ним неблагодарны; как странно, несправедливо раздаются венцы лавровые. Женщинам, то есть их внушениям, посредственным и непосредственным, принадлежит, скажу смело, большая часть прекрасного, которым мы обладаем в произведениях искусств изящных, и, между тем кто произносит имя Лауры, Элизы Драпер, Фанни, мисс Чаворт, Элеоноры с таким благоговением, с каким произносят имена Петрарки, Стерна, Клопштока, Байрона, Тасса?[48] — Здесь есть еще другой варварский предрассудок: рассуждают о каких-то личных их недостатках, заблуждениях, как будто бы они что-нибудь значили в общем итоге. Всего досаднее бывает мне за Элеонору. Все жалуются на нее, что она не чувствовала любви Тассовой, не умела ценить ее, оставляла его в горести и пр. — Согласен я, но она внушила «Освобожденный Иерусалим», и какое лучшее право иметь ей на бессмертие? — Все прочее — мелочь, которую человек с чувством должен оставить без внимания, мелочь, неразлучная пока с скудельным составом человеческим. То же думаю и вообще о великих людях. Как сметь, например, видя «Мадонну» и «Светлое преображение», думать и говорить о какой-то невоздержности Рафаелевой? Прочь, мысль недостойная! Я взираю на душу великого мужа в лучшие минуты ее деятельности и, благоговея пред ними, на все прочие накидываю покров забвения. Я взираю на душу, а не на людей. — Прощай, Всеволод! устал.
P. S. Мне вздумалось перечитать письмо свое, и я чувствую, что чего-то не досказал тебе, как будто бы что-то лежит у меня на сердце. Что такое?
ПИСЬМО XIII
От С. С. к Б. Б.
Кого ты вздумал морочить? Я давно уже предсказал тебе то, чего ты так хитро не договорил в письме своем. Ты влюбился, то есть ты погиб. Теперь нечего советовать тебе, не о чем просить. С слепыми ли рассуждать о цветах? Все кончено. Письма твои отныне я буду принимать только к сведению, сам писать — ex officio[49], хладнокровно, как о предмете постороннем, как о мыслях в новой книге.
Что нагородил ты мне о женщинах? Елеонора внушала «Освобожденный Иерусалим», и вот право на бессмертие!! Безумец! поэтому и яблоко Невтоново бессмертно! — Ты видишь только то, что внушили женщины доброго — но сколько великих людей погибло для человеческого рода от их пагубного влияния добычею ревности или других еще постыднейших чувствований! Вздорные страсти, расчеты, хитрости, предубеждения, сплетни, словом, все в нашей природе, — не от сих ли страшных исчадий? — Счастливы древние! они ценили их как надо, и за то без помех могли предаваться своей высокой, общественной жизни. — К чему приплел ты еще выходку о Рафаеле? Мне смешно ведь читать, как ты мечешься из угла в угол. — Нет ни связи, ни последовательности, ни заключений. Бедная логика! — Между прочим, пришли скорее рассуждение о пределах географии. Да полно, есть ли оно? Где тебе!!
Я, я живу по-прежнему; тверд как алмаз и безопаснее еще Ахиллеса. Впрочем, и я познакомился с одною девушкою, дочерью соседки, к которой возил меня батюшка. — Вчера мы были вместе с нею на обеде у моего опекуна. Недурна собою и неглупа. Ты влюбился бы в нее тотчас. В нашем уезде все восхищаются ею. — Мне понравилось только какое-то выражение холодности, даже гордости в глазах ее. За столом случилось мне сидеть с нею рядом, язык мой как-то разболтался и не умолкал. Впрочем, я дал ей заметить под конец, что это случилось без намерения: подали малагу; она к чему-то сказала мне, что любит это вино, потому что оно сладко. «А я так потому, что от него опьянеть нельзя». Каков? — Продолжай писать ко мне: мне все ведь приятно узнавать, что с тобою делается.
ПИСЬМО XIV
От Б. Б. к С. С.
Вчера был день рождения Луизы. — Ты знаешь, я долго не решался, что подарить ей; то казалось не кстати, другое слишком обыкновенно и проч. Наконец решился было я написать аллегорическую повесть, в коей она играла бы главную роль, посвятить ей, — но побоялся проговориться без намерения, побоялся, чтоб не заключили чего-нибудь в дурную сторону и решился — как ты думаешь — перевести для нее Шиллерова Валленштейна[50], в котором она восхищается ролею Теклы. С каким удовольствием принялся я за работу и какое удовольствие работа мне доставила. Каждое явление, каждый монолог отзывался в душе моей, я предчувствовал все, что говорили Макс, Текла, Шиллер. Мысль, что мой труд будет приятен этой несравненной девушке, которую я люблю более всего на свете, что она, читая его, будет думать обо мне, одушевляла меня — я ночи не спал, и через две недели трагедия была готова. Нет — никогда, никогда не позабуду я этого блаженного времени, и если бы я во всю жизнь свою получил от Луизы только это вдохновение, и тогда осталась бы она незабвенною для моего сердца. Буду ли я опять когда-нибудь так счастлив? Оставалось три дня. Я сшил тетрадь из голландской бумаги и начал переписывать с таким тщанием, с каким от роду не писал ничего. Каждую строку отделывал как артист. Наконец наступило 25 августа. Я отправился в Сокольники и так боялся — сам не понимаю чего — что даже сердце у меня билось. — Меня встретила именинница… Я подошел к ней… и тут не помню уже, что было со мной, как отдал тетрадь свою и что сказал ей — даже что она отвечала мне. — И так об утре я не могу написать тебе ни слова. Помню только, что к этому времени принадлежит один взгляд ее… взгляд, который останется навек в душе моей. О, если бы так взглянуло на меня Провидение! Теперь при одном воспоминании об оном какая-то райская благодать по мне разливается. — Ангел! небесный ангел! благословляю тебя, благословляю минуту, в которую я видел тебя на земле! За обедом я сидел подле нее: на ней было клетчатое серенькое платье из холстинки. — И вот что странно! Платье это мне не нравится, очень грубого цвета, но так пристало к ней, так… я не знаю что-то… что она мне еще милее показалась в нем. Белая косынка кисейная чуть лежала на шее. Средний конец был подправлен сзади под пояс, два остальные зашпилены на груди бриллиантовою булавкою. — Волосы, незавитые, были соединены с косою под черепаховым гребнем. — Гостей сидело за столом человек десять, и между прочим, какой-то полковник, увешанный орденами, старинный сослуживец ее дяди, с сыном, молодым человеком лет в двадцать. — Ей почти не удалось говорить со мною. — Пили за здоровье. «Поздравляю вас, будьте счастливы!» — сказал я ей вслух и подумал про себя: «Ты сама счастие». — После обеда все гуляли в саду. Она улучила как-то свободную минуту, когда нас не слыхал никто, и сказала мне:
— Я всегда проводила этот день с удовольствием, но никогда не проводила с таким удовольствием, как ныне, и им я обязана вам. Еще раз благодарю вас.
— Дай бог, чтоб всякий год увеличивалось ваше удовольствие, — отвечал я.
— Это уже слишком много, — а вы разве всякий год будете переводить мне по Валленштейну?
— Даже писать, если это приятно вам.
— Честное слово?
— И слово, и дело!
— Ударимте по рукам. — А мне что пожелать вам?
— Мне не желайте ничего. Я уже счастлив мыслию…
— Луиза! — тут закричал г. Винтер, — послушай, Луиза! покажи нам свою беседку.
— Там не убрано, дяденька, извините…
— Что за вздор! Там хорошо и без уборки…
— Но у меня нет ключа.
— Сходи за ним.
Она пошла как будто нехотя, и я не понимал отчего. Возвращается… идем… вхожу и я, и что же попалось мне прежде всего на глаза? Моя тетрадь, обвернутая в чистую бумагу и разложенная на последней сцене… на конце было написано что-то, как я увидел издали. — Я отворотился в сторону и стал смотреть на портрет Дмитриева, нарочно для того, чтоб дать ей время прибрать тетрадь. Мы пили чай в беседке. Впрочем, мне как-то неловко было при чужих людях. Она заметила это и спросила меня о причине. Я сказал, что лучше люблю быть с нею сам-дру… сам-третей.
— У вас мой вкус, — отвечала она мне, улыбаясь, — я также не люблю общества.
— Позвольте же мне отпраздновать нынешний день послезавтра у вас; в воскресенье, — сказал я, — вы будете одни?
— Приходите, приходите, буду дожидаться вас.
Я взял шляпу и ушел потихоньку.
ПИСЬМО XV
От Всеволода к его другу.