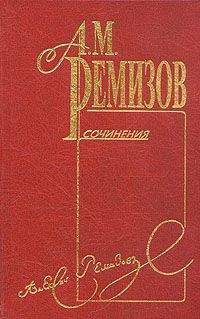— Вы г-н Кудрин, позвольте с вами познакомиться, я — Пундик!
Кудрин оторопел.
— Я ничего не понимаю, — сказал он Пундику.
— А я все понимаю, я — паспортист, и все это ерунда.
— Вот, вот видите, — загородил Пундика Козел, — вот она…
И отливаясь, долбили крики и разговоры.
— Вы, как хозяин, — тянул спотыкающийся голос, — эту ночь веселей… проведем.
— Это черт знает! — слесарь Гаврилов, обозленный, поднял кулак.
— Ура! — заорала комната, — ура!
— Дура-дура! — пересекались крики.
Должно быть, пробило полночь. Хлопало, пузырило, чокалось.
Несколько рук потянули Кудрина.
Полон стол был в бутылках. Натащили гости.
— Обязательно — как хозяин — с новым годом, — тыкали Кудрина.
— Александр Иванович, а Александр Иванович, — подчивал сапожник Кирилл, — а это мое приобретение. Фекла принесла, сам коптил, сам солил.
— Яичка-с, яичка-с, — латошил какой-то скользкий.
Кудрин не сопротивлялся.
— А колбасики, Александр Иванович, а Александр Иванович, сам коптил, сам солил.
В глазах зеленело, подкашивались ноги. Отшибало память.
— Может, нам продолжать чтение? — спросил растерянно Кудрин.
— Черт с ними, лучше уйти, — сказал Гаврилов.
— В сарай? — захохотал Лупин.
— «Во пиру была, во беседушке…» — завизжал вдруг пьяный старушечий голос.
Расступились.
Посередь комнаты не ходила, а сигала хозяйка-старуха, размахивая сулеёй во все стороны.
И шла прямо на Кудрина, зацепила его незанятой костлявой рукой. Проливая водку, полезла целоваться.
Кудрин не сопротивлялся и, как ни противно, поцеловал пьяную старуху. Но старухе мало было, она хотела еще, еще раз, — и липкий, беззубый ее рот тыкался в его губы, старался прикусить и подержаться, а лягушачий ошпаренный язык норовил послаще всунуться…
Хохот перебивал все крики.
— Ай-да бабушка!
— Да она любую за пояс заткнет, ха-ха-ха!
— Ху-ху-ху!
— Саня, Саня, — куёвдилась старуха, — ух, хвостом пройдусь, сверлит, тело прыгает, ух! да — а, во пиру была…
— Александр Иванович, а Александр Иванович, — жужжал на ухо сапожник, — сам коптил, сам солил… варененькой… копчененькой.
— Я вас обидел, раз-дра-жил! — хватал за руку телеграфист, — я, можно сказать… мы пришли без позволения… чтение послушать… как какие-нибудь свиньи-нахалы и тому подобное.
— Ну что ж, что старуха, — я знал одну.
— Дохлая кобыла.
— Нет, не дохлая.
— Ну и черт с тобой!
— Я стыда не знаю, — кричит осипший голос, — кой стати Богу молиться, я — старуха!? — и, пожимая плечом, хозяйка снова зацепила Кудрина и молодецки, будто в двадцать лет, чижиком закружилась с ним.
Он выделывает невероятные прыжки, подпрыгивает мячиком и одного хочет: удержаться и не упасть.
А может быть, он просто мячик, а все остальное — недоразумение? Очки запотели, ничего не разбирает. Только один рот ошпаренный, сжимающийся, как резинка, летает в глазах.
— Али скачет, али пляшет, али прыгает, — причитает старуха, приговаривает, — ух сейчас, ух пойду, пойдем Саня в баню — в баню.
И не вынесла нога: со всего размаха грохнулась старуха, а за ней и Кудрин. И сулея кокнулась: брызнув, полилась водка по полу.
— Я вас обидел, можно сказать, безобразный труп ужасный, я раз-дра-жил?
Несколько человек бросились на хозяйку. Откуда-то появилась веревка. Стали веревкой скручивать.
— Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!
— Охо-хо — подлец — перепелястый черт — хо-хо, — стонала старуха.
Кудрин брыкнул кого-то каблуком и поднялся. Очков на нем не было.
Накинув плащ,
С гитарой под полою…
И один какой-то голос взял вразрез всем голосам: и стало мутно и душно.
Затиририкала гармонья.
Старуха, со связанными ногами, ползла на цепких руках и плакала.
Ударились в пляс.
Ноги и руки бултыхались, егозя под самым потолком.
С Козла стащили куртку и штаны, И в одних валенках, скрестив руки, семенил он от печки до полки, залихватски заводя ногу за ногу, как заправский танцор.
Было так, будто плясала одна валенка с черной бородой, об одном глазе.
Глаз подмигивал.
А перед Козлом не плыла, а скакала Фекла, подбирая высокую юбку, и так скалила зубы, будто кусать сейчас кинется. Шерстяные вязаные паглинки на толстых ногах заполняли комнату; и непреодолимо тянуло поймать ногу и ущипнуть.
В кучке, у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали кому-то пупок для отрезвления. Кто-то сопел и захлебывался.
Кудрина тащили к столу выпить.
— Вы, можно сказать, как хозяин…
— Я все понимаю, — я паспортист…
— Сам коптил, сам солил…
Он ведь привык с проститутками шляться
Пылкие ласки от них получать.
Он ведь не сделает пылкие ласки…
— Хочешь, я тебе всю рожу раскрою?
— Ну-ка — э-э!
Среди каши, топотни и визга какой-то длинный с рыжей бородой навалился грудью на гармонью, и гармонья хряснула.
А слесарь Гаврилов, развернувшись, стал бить рыжего по голове и по лицу. И слышал Кудрин, тоненько заревел рыжий, словно ребенок, тоненьким голоском, жалобно.
Тоненький голосок проник всю комнату.
Паспортист Пундик, проливая рюмку, жаловался, что он все понимает и нет для него ничего непонятного.
— И все ерунда.
Какая-то девица, с расстегнутым лифом, ударяя кулаком по столу, растроганно объясняла полицейскому писарю, что жить ей тут невозможно и что она уедет в Австралию.
— И пущусь я в путь, прямо — в Австралию.
Кирилл и Фекла, морща носы, упрекали друг друга.
И еще какие-то тела на кровати, ни на что не похожие, не то смеялись, не то рыдали.
Кудрину вдруг захотелось взять перечницу и поперчить каждого. Но перечницы, как ни шарил, не мог найти.
— Я вас обидел, я раз-дра-жил? — тянул телеграфист.
— Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!
Пусть он поищет волос умиленья
Пусть он поищет румяней лицо…
* * *
Знать, надоела гостям комната. Гонит хмель на улицу. На улице метель метет, оснежает окна, птицей заглядывает в трубы, обваливает кирпичи.
В комнате темь.
Но пропадает всякая надежда успокоиться.
За стеной пищит гармонья одноголосая, тяжелый каблук дробно выбивает по полу. Дверь отворяется: кто-то, шарахаясь, бродит по комнате, сбивает со стола бутылки, натыкается на стулья и тычет в Кудрина пальцами.
Все горит: и подушка, и кровать и воздух.
Хоть бы каплю холодной воды, один глоток…
— Попить! — просится Кудрин, как малое дитё, и вдруг холод сковывает все его тело, и душа уходит в пятки…
У него пять ног, он их ясно почувствовал… И онемевшей рукой пересчитывает; не может понять, откуда их столько? и онемевшей рукой пересчитывает.
— Что-что-что? — точит нехороший голос, точит, стучит маленьким красным язычком прямо под сердцем.
— Попить! — просится Кудрин, как малое дитё.
— Свинья! — отрыгнулось под кроватью чье-то мертвое тело и, широко зевнув, захрапело, поскрипывая зубами.
А он уж не может ни слова выговорить, он забыл слова, он никогда их не знал…
— Агу! Агу!
И лежит пластом и водит руками, ощупывается, пересчитывает свои целых пять ног.
— Агу! Агу!
А позвать некого.
За стеной пищит гармонья одноголосая.
Звонят в церкви к ранней обедне; далеко в поле относит колокол.
По хлевам скот договаривает свой ночной разговор по-человечьему, как всегда под новый год.
Пробуждается белый свет метельный, как метельной прошла ночь, встает новогодний день и торопится, чтобы прибавиться на куричий шаг.
Востроухая Лайка, проспавшись, лает на ветер.
Под воротами двуглазой облупленной башни с золотым кованым ключом на стальном шпице толкалась кучка сухопарых баб с поджатыми злющими губами.
Забрались бабы в крепость спозаранку, выстояли обедню в крепостной церкви, истово приложились к иконам и отправились ходить по тюрьмам, будто по пещерам.
Раз десять побывали они и в каменной старой и в новой кирпичной, раз десять заглянули в каждую камеру, все перетрогали, про все расспросили. Пора бы бабам домой уходить, обедать, а бабы не уходили, наступали и а жандарма, — этот жандарм водил их по тюрьмам, терпеливо показывал всякую мелочь.
— И не пойдем — хорохорилась самая старая, — ты нам главного не показал.
— Ей Богу, все показал! — божился жандарм.
— Все, да не все, а еще божится! Ты темную показал? виселицу показал? мельницу ты показал-а?!
— Какую еще мельницу!
— Такую, нечего дурака-то валять, известно, мельница, людей мололи.