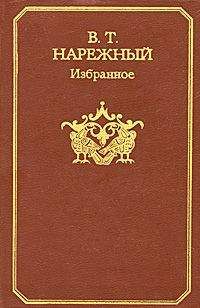На возвышенном одре лежала София, бледная, подобно месяцу в осень глубокую. Закрыты были уста ее и взоры.
Цветный венец лежал на главе страдалицы, и малый крест в руках ее. Вокруг одра стояли возженные светильники. Седый Блпстар сидел у ног ее, и горькие слезы старца лились по щекам его.
"Ее нет уже, витязь!" - сказал он, обратясь ко мне, - и я пал, подобно дубу высокому, громом пораженному.
С появлением третьего дня открыл я впервые взоры свои.
Мертвая тишина господствовала в душе моей. Я не мог произнесть ни одного вздоха, ни одного слова. Все, всякое чувство во мне было сковано цепями неразрывными. Одно слабое движение показывало, что я еще не труп бездушный.
Исполняя последнюю волю несчастной, изрыл Блистар могилу подле сих дубов ветвистых. Тут предали мы земле прекраснейшее создание природы. Мы насыпали холм возвышенный, и я водрузил крест древесный.
Оставя Блистара хранить священное место это, обратился я ко двору Владимира, дабы по крайней мере сохранить мою клятву, ему данную, клятву не оставлять друга до гроба.
Подобно скитающейся тени отверженного небом грешника, блуждал я по граду Киеву. Видел богатство и великолепие, видел пиршества и веселие, но ничто уже в мире не могло занять пустоты души моей. Тако правосудие горней власти грозно отмщает старцу за преступление юноши.
Протекли десять тягостных годов, - и Владимира - друга моего - не стало! Я отдал последний долг мужу великому и обратился к моей пещере, моему святилищу. Один ты, Бориполк, восхотел следовать витязю в его уединение.
Тут, на дубах сих, повесил я меч мой и копье великое; щит и колчан со стрелами быстрыми.
По кончине Блистара, ты один остался мне от всего мира пространного.
Тут - с вершины холма сего, у ног моей Софии, смотрю я иногда, как солнце выходит из-за лесов дремучих во всем блеске красоты своей.
"Таково было появление мое в мире сем", - думал я, и священное безмолвие природы усугубляло восторг мой.
Иногда вижу я, как грозные тучи, собравшись вместе, закрывают солнце от взоров мира и покрывают природу горестным мраком. Вижу, как молнии, раздирая недра небесные, вьются по тверди подобно змеям зияющим: они летят, обрушиваются на кедры великие - раздается рев и треск, и растерзанное древо падает в корне своем. Тогда с стесненным сердцем падаю я на могилу Софии, обнимаю землю хладную и восклицаю к бунтующей природе: не се ли образ дней моих - во время старости?"
Умолк Велесил и с болезненным стенанием пал у холма.
Бориполк преклонил колена, поднял седую голову витязя и сказал, указывая на полуденное солнце:
"Видишь ли, Велесил, сколь блистательно теперь шествис светила великого? Еще немного часов, и - оно закатится; природа во мрак облачится, и мощные привидения рассыплются на верхах гор и дерев высоких".
Вечер V
ГРОМОВОЙ
Владимир, сын Святославов, воссел на престоле единоначалия. Мятежи прекратились, спокойствие разлилось по челу России от пределов Севера к Югу и Западу. Утомленные мечи в ножнах покоились, вопли и стоны прекратились, - везде тишина благословенная.
В сие время мира всеобщего Добрыня, витязь, друг и дядя Владимира, господствовал в великом Новеграде. Душа его не привыкла к покою, и сердце трепетало радостно при звуках ратных. "Громобой! - вещал он своему оруженосцу, - седлай моего коня бранного, готовь меч крепкий и копье булатное; мы идем странствовать. Спокойствие в России воцарилось. Тишина господствует в палатах витязей и хижинах хлебопашцев. Но есть страны иные, есть люди не русские, есть области целые, где невинность угнетается, где доблесть не получает награды должной, где великие - исполнены лжи и жестокости, и князья - на тронах бездействуют; где льются слезы кровавые и болезненные стоны к небу возлетают! Седлай коня моего бранного и готовь оружие крепкое. Идем наказать власть жестокосердную и защитить невинность угнетенную!"
На утрие другого дня, - с появлением Зимцерлы румяной на светлом небе, - потек Добрыня путем своим. За ним следовал в мрачном молчании юный оруженосец его, Громобой, коему едва исполнилось тридесятое лето [В то время мужчина в 30 лет почитался еще юношею. (Примеч.
Нарежного.)]. Волнистый туман плавал на траве злачной, и громкое пение птиц, вьющихся в пространном небе, казалось, приветствовало витязя в благонамеренном пути его. Много дней длилось их шествие; а доколе протекали они пределы земли Русской, мечи и копья их были в покое. Везде радость встречала их, везде провождали их рукоплескания. Наконец, к исходу двадесятого дня, при закате солнечном, приблизились они к рубежам России. Тут остановился витязь со своим оруженосцем, дабы дать отдых коням своим и решиться, в которую страну первее вступят они - в Косожскую или Печенежскую. Им предлежали границы обоих княжеств.
При входе в лес дремучий, на долине, усыпанной цветами благоухающими, при пенящемся источнике, воссели витязь и спутник его. Закатывающееся солнце златило края неба и доспехи странников. Веселием сияло лицо Добрыми; он снял тяжелый шлем свой и повесил на дубе.
"Громобой! - вещал он, - как прекрасно солнце при безмятежном склонении своем в волны морские! Таково уклонение в могилу витязя великого, когда жизнь его была подобна солнцу в возвышенном его шествии; когда любил он добродетель и жертвовал ей жизнию; когда награждал он доблесть, будучи чужд самолюбия".
Спокойствие разлилось на лице его, и сладкая задумчивость носилась в его взорах, подобно прибрежному цветку, коего образ представляют в себе кроткие волны.
"Куда направишь отсель шествие твое, витязь?" - вопросил Громобой.
"В землю Косожскую", - Добрыня ответствовал.
Взор юноши покрылся мраком, и быстрое трепетание груди его возвещало бурю душевную.
"Оставим страну сию", - сказал он в смятении, и вид его был робок и преклонен.
"Что значит это волнение души твоей, юноша? - вещал Добрыня. - Что значит брань, кипящая в крови твоей? - ибо я примечаю ее и хочу знать вину истинную".
"Воля витязя для меня священна, - отвечал оруженосец. - И сколь ни жестоко уязвлю я сердце мое воспоминанием прошедших горестей, но ты познаешь вину тоски моей; и если когда-либо был ты неравнодушен к силе прелестнейшего в мире сем, то ты простишь унынию, царствующему в душе моей!"
Кроткое осклабление разлилось по лицу витязя. Дружелюбно простер он руку к оруженосцу и вещал:
"Юноша! Я познаю болезнь твою: не любовь ли называется она? Но не тревожься. Это есть язва, общая всем, живущим под солнцем; но она благодарение богам небесным - она несмертельна. Громы оружия заглушают вздохи, и блеск мечей затмевает ядовитый взор предмета любимого. Успокойся, Громобой. Болезнь твоя пройдет, как проходит всякое мечтание, горестное ли оно или приятное. Се воля богов! Было время, - не стыдясь возвещу тебе, - было время, когда и Добрыня, подобно рабу, ничтожному сыну Греции, носил оковы сей лютой страсти.
Вместо того, чтобы согласно великому назначению витязя и сродника княжего быть мне беспрерывно в битвах и трудах достойных моего имени, - я праздно покоился в объятиях красот Севера и забывал все, даже стремление прославить имя свое. Ничтожность одна была в уме моем и сердце.
В один раз, нашед красоту суровую, скитался я в отчаянии по полям и дебрям с подобными мне безумцами. Ветр разносил вздохи мои, и один месяц был свидетелем моего неистовства. И от того-то друзья мои и товарищи, болезнуя о несчастном, составили язвительную песнь, будто Добрыня, чародейственно своей обладательницею, прелестною гречанкою, немилосердно превращен будучи в тура рогатого, скитается по полям и вертепам. Вскоре все киевляне воспели песнь сию, и я в моей пустыне услышал ее, устыдился своего безумия, возвратился к должности - и с тех пор дозволяю себе наслаждаться веселием, доколе оно не опасно для свободы духа моего.
Не могу тебе советовать идти верно по следам моим, ибо ты юн еще и неопытен; но поверь Добрыне, все пройдет, и воспоминание о страсти сей в лета мужества покроет румянцем стыда ланиты твои. То, что дано нам для увеселения, не должно быть страстию; иначе мы противимся назначению богов и достойно наказуемся".
"Разумны слова твои, витязь; но ты иначе судить будешь, когда познаешь всю сокровенность души моей", - сказал Громобой.
"Хочу знать ее", - рек Добрыня, и Громобой начал:
"Я сын Любомира, вельможи двора Слотанова, князя Древлянского. Младенец был я, когда свирепые печенеги обложили престольный град с великою силою ратною.
Князь Слотан и с ним родитель мой с избраннейшими из воинов пали на поле брани, защищая стены отечественного града, который вскоре наполнился пламенем и врагами кровожадными. Устрашенные обитатели с воплем устремились в бегство, и с ними вместе увлечен был я в леса, Искорост [Столица древлян. (Примеч. Нарежного.)] окружающие.
Там, среди пастырей протекла первая юность моя. Наступило двадесятое лето жизни моей - и неизвестная тоска, стеснив грудь мою, давила сердце. Ясно чувствовал я, что не к мирной жизни пастырей судьбы богов меня назначили.