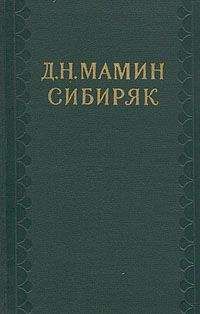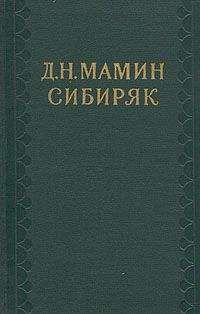Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника, лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно он, в соприкосновении с матерью-природой, переродился и просветлел каким-то внутренним светом.
— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?
— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливаются медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особливо кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото оченно строго судили, не как по нонешнему времю. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.
Калин Калиныч посмотрел на меня, повернулся животом вниз и, положив голову в свои ладони, как тыкву, продолжал:
— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бе-едовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от приисков совсем и отстали, стали водкой заниматься, — это дело в беспример безопасное и прибыльное, — а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатьич, Печенкин то есть, уж старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними. «Что, говорит, подлецы…» Это он Аристарху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба — все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли. Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому — при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, — ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, только за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись, а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, — вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с… Самое казусное-с дело-с!..
Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:
— А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с… Ей-богу-с! А прежде, бывало-с, хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с…
Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам, надеясь найти защиту от облепившего ее овода.
— Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! — заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.
Он соорудил небольшой костер из старого пня, нескольких полен и дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хворостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.
— А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, — заговорил он, болтая ногами.
— Какую церковь?
— А в память освобождения крестьян-с… Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполнилось, как хлопочем-с. Оченно много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу подходит, — кунпол выводить зачали-с…
— На чьи же деньги эта церковь строится?
— Как на чьи-с? — На мирские-с… Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то…» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по конец жизни… Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчитывает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий говорит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога…» А со стороны сколько напринимался — страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, — долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.
— А когда будут святить церковь? — спросил я довольно громко.
— Шш!.. — зашипел Калин Калиныч, многозначительно кивая в сторону лога. — Не любят они меня за эту церковь, гложут-с… Особливо Василиса Мироновна. Она женщина, можно сказать, божественная-с, потому от писания у них разумение большое, а вот этого не выносит-с… Слышать не могут-с, потому как к старой вере большое прилежание имеют, и построение святого храма для них большой соблазн. Василиса Мироновна как об этом предмете начнут с отцом Нектарием разговаривать-с, все равно как книга-с… Ей-богу-с! Как по печатному, так и отчитывают-с, так и отчитывают-с… Отец Нектарий спорит, спорит с Василисой Мироновной, да и скажет: «Вы, Василиса Мироновна, необнакновенная женщина-с!.. Оченно свободный разговор имеете и большую смелость».
Мы немного помолчали. Вспомнив рассказ Калина Калиныча об его дочери, я спросил его:
— У вас, Калин Калиныч, кажется, есть дочь?
— Да-с… А то как же-с? — спрашивал в свою очередь старик таким тоном, точно у каждого человека непременно должна быть дочь. — Только много с ней хлопот, с дочерью-то…
— Какие же с ней хлопоты, Калин Калиныч?
— А как же-с? Ведь она — женщина, а я в ихнем женском деле ничего не понимаю-с, вот и хлопоты-с… Я одно говорю, а она — другое, да еще скажет: «Вы бы уж, родитель, лучше молчали!» Ей-богу-с! И замолчишь, потому как я мужчина и не могу понимать по женской части. Да и карахтер у Венушки какой-то необнакновенный-с, совсем какой-то неукротительный-с… Да-с. Еще при жизни Матрены Савишны-с это стало заметно. А покойница имела сама карахтер, можно сказать-с, жестокий, так другой раз возьмут Венушку-то, голову защемят-с промеж ног, загнут-с подол-с, да и оштрафуют посредством крапивы-с… Из своих собственных, родительских рук-с! А все из-за чего? Венушка сызмала всем дерзкие слова говорила… Мать-то ее дерет, дерет, а она, как вырвалась, сейчас заскачет на одной ноге, матери высунет язык и свои слова выражать: «Что, натешилась, а? Что, взяла?» Ей-богу-с… Горох у нас в огороде-то был, для Венушки же больше и садили его, так нет-с, не хочу своего гороху, а подавай чужого-с… Подберет себе компанию мальчишек, да и подобьет всех к соседке горох воровать. Облепихой звали соседку-то, большущая женщина из себя была, а в разуме не тверда-с… Возьмет палку-с, эта самая Облепиха, да с палкой в борозду и завалится, — это ребятишек караулить-с, — а тем это и любопытно-с. Даже до смеху доходило-с… А как мать умерла, Венушка от моих рук совсем отбилась, поступила в учительши, а насчет дерзких слов только слушай-с!.. А ведь я ей что постоянно говорю: «Венушка, удержи ты свой вострой язык, Христа ради! Посмотри ты на меня, ведь я тебе отец…» А она еще хуже от этих моих слов — и пойдет-с, другой раз и меня, старика, до слез доведет. Ей-богу-с! Хоть взять отца Нектария: человек, кажется, божественный и старички, а Венушка выдумала звать их сладчайшим… Разе хорошее это дело-с? Необнакновенный карахтер-с… И другие-то ругают меня, что такую дочь вырастил и что она неукротимо себя держит, а я ихнего дела-с совсем не могу понять-с. Ведь не могу же я голову меж ног да крапивой-с: первое — Венушка на возрасте-с, девица вполне-с, а второе — мужчине это совестно делать с женским полом…