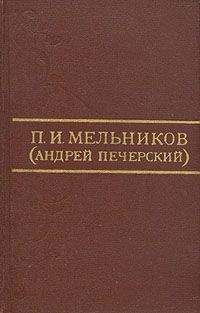И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безответная… По чести, mon cœur, когда было ей шестнадцать либо семнадцать лет — ангелом небесным все ее почитали. Да… c'etait une personne compatissante et sensible.[51]
"Отец с матерью души в ней не чаяли: была у них Настенька одна-единственная дочь — детище моленое, прошеное. Так в глаза и глядели ей… Тем девку и попортили, что смолоду полную волю ей дали во всем. Не знавала Настенька грозного слова родительского, не слыхивала слова запретного — на воле да в холе жила, как хотела… Ну и сдурилась… Совсем сбилась с похвей!.. Так сдурилась, mon petit, что в двадцать лет ее узнать было невозможно…
А все книги… Книг зачиталась — и зашел у ней ум за разум. Читала все, что ни попало, без толку, без разбору — а отец с матерью не запрещали: "читай, мол, все, что полюбится". И набралась Настенька дури да чепухи, — тем и себя погубила…
Еще в ребячьих годах много была начитана — в нюрембергские, бывало, забавляется, а сама наизусть Расиновы трагедии да «Генриаду» так и чешет… Расставит куклы на столе да и почнет из «Медеи» декламировать…
Это бы ничего — книги хорошие… А как было ей лет шестнадцать либо семнадцать, попадись ей Лашоссеева книга "L'Enfant prodigue".[52] Прочитала ее Настенька да в cemedie larmoyantes[53] и втянулась… Иссентиментальничалась, конечно, а потом к Жан-Жаку Руссо пристрастилась. Натура, видишь, больно ей по нутру пришлась, да еще не знай какие-то там les droits de l'humanite… И зачала дурить.
По-моему, mon bijou, уж если разобрала ее охота книги читать, романы читала бы… Невпример приятнее, и сдуриться никак невозможно… А в стары-то годы, Андрюша, какие бесподобные романы печатали… Ужесть какие затейные! Теперь, я так полагаю, mon pigeonneau, что так и печатать не умеют. Лесажевы романы взять на приклад — "Жильблаз-де-Сантильян" или "Хромоногого беса"… Ух, какие знатные романы!.. Читал ли ты их, Андрюша?
— Читал, бабушка.
— Очень хорошие романы. Ты мне почитай их когда-нибудь. Мне бы это очень приятно было, потому что эти романы беспримерные… А то еще в другом роде были у нас книжечки — это уж самые затейные… Читал ли, голубчик, Боккачио?.. А?..
— Читал, бабушка.
— А сказочки Лафонтеновы читал? Le Fables de Lafontaine, а сказочки, сказочки?
— Читывал и сказочки, бабушка.
— Э!.. плутишка!.. Уж успел!.. А, небось, мне никогда не почитает!.. Лень, видно, бабушку-то старуху потешить?.. А не правда ли, mon cœur, какие утешные сказочки?.. Самые затейные!.. По чести, все мы были до них охотницы… А Настенька их не читала и ни до каких романов склонности никогда не имела… К философии, видишь ли, пристрастилась — все бы ей Монтескье, да Дидро, да Жан-Жака… Оно, правда, в ту пору и при дворе это в моде было: сама государыня с Вольтером в переписке была, оттого и метнулись все в философию, только не надолго, для того, что философия-то нам не к лицу пришлась… В самую ту пору и сдурилась моя девка. "Теперь, говорит, пришел золотой век Астреи — свободным языком можно обо всякой пользе говорить"… И пошла и пошла, да по скорости и договорилась до сибирских городов… Вот тебе и Астрея!..
— Что ж с ней сделалось, бабушка?
— Известно что — с ума спятила. Перво-наперво за то всех зачала шпынять, что дурок да шутов при себе держат. Это, говорит, зверский обычай, варварам подобный… Поди вот ты с ней…
— Да разве не правда, бабушка?..
— Правда?.. Хороша правда!.. Признаюсь!.. А почему это, позвольте вас спросить, не держать дворянину при себе дурака?.. Это очень забавно!.. Ты то вспомни, mon pigeonneau, что не только у знатного шляхетства, а при всех даже королевских дворах шуты и дураки не переводились… И у нас, в Питере, при дворе императрицы Анны Иоанновны бывали шуты, да еще какие!.. При государыниной собачке князь Волконский в няньках состоял, князю Кваснику-Голицыну в жены не то калмычку, не то камчадалку дали и в ледяном дворце их пристроили… И у первого императора шутом был Балакирев — человек тоже родословный, да еще целая коллекция кардиналов, а при них князь-папа, а князем-папой спервоначалу учитель государев Зотов был, а после него Бутурлин… Вон какие люди!.. Да и сама государыня Екатерина Алексеевна дурку держать при себе изволила — Матрену-то Даниловну. Дурка та городские слухи ей приносила… Все знатные очень боялись ее. Помню я, как на моих глазах в ней заискивали. Рылеев, обер-полицмейстер, к каждому, бывало, празднику Матрене Даниловне и кур, и уток, и гусей шлет, чтобы язычок-то на его счет покороче держала… Знала я и Матрену Даниловну, самолично знала.
Опять-то не по нутру Настеньке пришлось, что у знатных персон блюдолизы приживали. Паразитами их называли тогда… У всякого человека по десяти таких бывало, а у иных и больше. Всякими манерами они милостивцев своих потешали: кто плясать горазд — пляши, кто стихи мастак сочинять — оды пиши, а кто во хмелю забавен — поят, бывало, того винищем, каждый божий день, ровно свинью… А за то, что они знатного человека тешат, каждый день им стол открытый и ко всякому празднику кафтан с плеча… Что ж тут дурного, mon petit?.. Христианское братолюбие — больше ничего… Да… любили тогдашние вельможи бедным людям помощь оказывать. И сами жили и другим давали жить. А что иной раз, не разбирая ранга, вспороть велят паразита — так спина-то у него ведь не купленная — остались бы кости, а тело — наживное дело — нарастет… Отчего ж знатному и не потешить себя?.. Ну, а Настенька не в ту сторону гнула — все это, говорит, татарское рабство… Вон куда метнула!.. Беспримерно как дурила?..
Да пущай бы еще у себя дома, в четырех стенах такую чепуху городила — так нет, все, бывало, норовит при людях дичь нести. Не разбирая никого, так, бывало, и режет: и на куртагах, и у Локателлия,[54] и на банкетах… И горюшка ей мало, хоть сам князь Григорий Григорьич тут сидит. Да что Григорий Григорьич! Он и сам подчас любил так же поговорить, как и Настенька — за подлый народ всегда заступу держал… А другие-то, другие-то! Люди почтенные, сановники — обижались ведь!.. А петиметры, заразившись Настенькиной красотой, бегут, бывало, к ней, ровно овцы к соли, а она и почнет им свои рацеи распевать, а те слушают, развеся уши-то, да еще поддакивают… Иной, в угоду Настеньке, и сам где-нибудь на стороне такую же чепуху почнет городить… Всю молодежь девка перепортила — такая зловредная стала… И посты и все отбросила… Раз посоветовала ей на кофею судьбу узнать — и кофею не верит, mon petit… Вот что значат философские-то книги!.. Ты их не читай, Андрюша!..
Потом на воспитанниц накинулась. Что они ей сделали — до сих пор ума приложить не могу. В стары годы, дружок, во всяком почти шляхетском доме, мало-мальски достаточном, воспитанниц держали. Особливо охочи были до них бездетные барыни да старые девки. В Питере еще не так, а на Москве так счету этим воспитанницам не было. Набирали нищих девчонок в подьяческом ранге либо у шляхетства мелкопоместного. Которая барыня штуки две держит, которая пяток, а очень знатная — и десяток либо полтора. Учат девчонок, воспитывают себе на утеху, а им на счастье…
А старые девки да барыни бывали охочи до воспитанниц для того, что с ними в доме людней и от того веселее. К старью-то петиметры не больно охотно ездили: с праздничной визитой, аль в именины поздравить, да на званый обед, а запросто никто ни ногой… А привыкши смолоду в большом свете с аматерами возиться, старушкам-то и скучненько… Вот они для приманки щегольков молодых-то девок, бывало, и держат… Коли воспитанницы из себя пригожи, отбою от петиметров лет — так и льнут, как мухи к меду… А старушке-то весело: глядит на молодежь да свою молодость и вспоминает…
Настенька и супротив этого во всю ивановскую кричать зачала: это, говорит, рабство, это, говорит, татарское иго, разврат, говорит, один, а не доброе дело. Воспитанниц, говорит, к себе набирать — все едино, что вольных людей в холопство закреплять… Так при всех этими самыми словами, бывало, и ляпнет… И уж как на нее старые-то злились. Брякнет, бывало, Настенька такое слово где-нибудь в большом societe, а старые девки, сидя в углу либо за картами, таково злобно на нее взглянут да и за табачок. И промывали ж они ей косточки: каких сплеток ни выдумывали, чего про Настеньку ни рассказывали — да все ведь норовили, чтоб как-нибудь доброе имя ее опорочить… Злы ведь старые-то девки бывают, голубчик мой!..
Станешь, бывало, говорить Настеньке:
— Помилуй, мать моя, что это ты себе в голову посадила? Как же это возможно сказать, что воспитанниц нехорошо в знатном доме держать? Сироту сам бог призреть повелел…
А она:
— Хорошо, говорит, призрение!.. Нечего сказать!.. Наберут бедных девочек да тиранят их век свой.
— Да какое ж, говорю, тиранство, mon ange? Разве не фортуна для какой-нибудь голопятой дворяночки, что она и танцам у придворного maitre de ballet учится, и по-французски у выписной мадамы, и всему другому, что нужно? Разве это не фортуна, что какая-нибудь голь перекатная — с княжнами, с графинями вместе учится, и после того les dames de la cour ее своей подругой называют? Разве это не фортуна, говорю, что подьяческому отродью либо мелкопоместной дряни такие петиметры, что еще в колыбели гвардии сержантами служат, — деклярасьоны в амурах объявляют?.. Помилуй, говорю, Настенька, ведь это умора… С ума ты спятила, радость моя!.. Не по-дворянски рассуждаешь, ma delicieuse.[55]