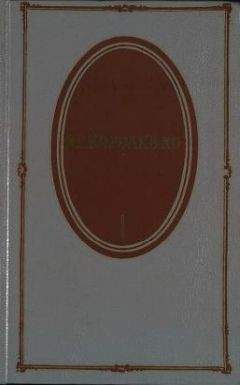Человек редкой доброты и мягкости, Короленко с решительностью и непоколебимостью борца и гражданина отстаивал мысль, что в обществе должна быть такая нравственная «температура», которая способствовала бы «затвердеванию» добродетели.
Близкий Короленко человек, сотрудничавший с ним в журнале «Русское богатство», критик А. Г. Горнфельд проницательно заметил, что личность и творчество Короленко составляют редкое художественное единство: «О лучшем произведении Короленко едва ли возможны споры. Лучшее его произведение не „Сон Макара“, не „Мороз“, не „Без языка“: лучшее его произведение — он сам, его жизнь, его существо. Лучшее — не потому, что моральное, привлекательное, поучительное, но потому, что самое художественное»[18].
Личность и творчество Короленко являли собою новый тип человека и художника. Его произведения опережали свою эпоху. Вероятно, именно сейчас наступает тот период, когда творчество Короленко может быть осмыслено во всем его многообразии и глубине.
Б. Аверин
Эпизоды из жизни «искателя»[19]*
Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую —
Каким идти.
Некрасов
I
Это было в 186* году. В то время ***ская железная дорога только что была окончена. Недавно еще промчался по ней пробный поезд, и вслед за ним, оглашая могучим свистом окрестности, гремя и сверкая, мчались новые вагоны, и клубы дыма и пара стлались далеко сзади, охватывая кусты и деревья и теряясь в молодой зелени листьев. Весна еще только разгоралась. Яркое южное солнце давно уже согнало последние остатки снега, но в воздухе все еще веяло молодой неустановившейся теплынью, в которой нет-нет да и пробьется острая свежая струйка.
Земля вздыхала полной грудью. Леса, которых так много в этой местности, стояли на горизонте, закутанные в мягкую сизоватую синеву, а вблизи с здоровой чернотой стволов уже смешивалась молодая зелень и в воздухе носился запах распустившихся почек. Меж раздавшихся в обе стороны деревьев блестела прозрачная речка и, точно резвясь, извивалась между размытыми далеко глинистыми берегами, на которых виднелись еще поймы наносного ила, торчали по обрывам обнаженные корни, валялись черные корчаги — следы весеннего разгула речки.
И железная дорога, с ее шумом и свистом, не портила этого впечатления. Эта молодая жизнь была так свежа и бодра, что могла примениться к чему угодно. Все она охватывала своими могучими волнами. Свежие насыпи, не успевшие сгнить новые шпалы, полотно, заново посыпанное щебнем с красноватым песком, — все гармонировало с общей картиной.
Несколько раз в день гудит в лесу звонкий свисток, прокатится над речкой, отдастся в далеких погружающихся уже в вечернюю дремоту чащах… И вот выныряет из лесу чудовище-локомотив и все растет, вырастает… Вырвутся белые клубы пара и, прохваченные свежестью наступающего вечера, опадают, ползут, ныряют между деревьями, и зеленеющие ветви, точно играя с ними, ловят их, прячут, закутывают своими объятиями, и они тают, скрываются между листвой, исчезают…
А поезд въехал на новенький мостик, сверкнул в прозрачной реке над светлым отражением живых еще свай, громыхнул, загудел и опять понесся с пыхтением и свистом по извивающейся дороге… И вот он уменьшается, тает… Только рельсы, точно живые, говорят и рокочут все тише и тише, постепенно смолкая… Вот еще раз слабо сверкнули окна вагонов и рычаги локомотива, еще свисток — уже издали, и темная змея, извиваясь, вползает в темную чащу… Лес раздается — еще мгновение, и над ним носится только белый дымок, в котором играют лучи весеннего заката.
А вокруг все опять тихо. Опять невозмутимо бежит речка и сдержанно плещут ее струйки… Туман носится в легком сумраке над полями, между пятнами леса, закутывая все от наступающей ночной прохлады, и только поближе видна еще яркая зелень молодой травки, да рой мошек звенит, точно вечерняя молитва… Вокруг торжественная тишь. Ночь опускается на землю, на небе проглядывают звезды, на западе реет еще отсвет заката, а на потемневшем, закутанном в сумрак востоке зарисовывается луна…
II
Я жил в этой благословенной местности. Я был молод и свободен, как ветер. Правда, я носил звание студента к-ского университета, но узы студента, если их вообще можно было назвать тогда узами, меня не особенно тяготили. Для экзаменов труда надо было немного, и я справлялся с ними отлично. Профессора, знавшие меня поближе, были мною очень недовольны, но я, признаться, смеялся над этим недовольством. Нельзя сказать, чтобы я не работал вовсе. Напротив, случалось работать, и работать сильно, упорно; но это не было систематическое факультетское учение. Я занимался всем, что меня интересовало, а интересовало меня очень многое, «слишком многое», говаривали ученые мужи… Поэзия и статистика, цифры и рифмы, «мечты и звуки» и вивисекция — все это уживалось во мне в удивительном согласии и гармонии. Стихотворения проливали свой мягкий свет на цифры, цифры, с дружеской солидностью, подтверждали неуловимые истины стихотворений. Да, мною были недовольны ученые мужи, но я был доволен собою, своей работой. Числясь официально на естественном факультете, я изучал политическую экономию и статистику, писал лирические стихотворения, с увлечением возился с микроскопом, поглощал исторические монографии. Однако если меня и считали идеалистом-теоретиком, неспособным к практическому труду, то это была ошибка. Мне случалось брать на себя исполнение чисто практических работ, и я отлично справлялся с ними. Чем труднее была работа, чем более в ней было спутанных частностей, требовавших сноровки, умения приспособиться, тем с большим увлечением я брался за нее. Я изучал, обобщал, подводил к одному знаменателю, приводил в систему, реформировал, творил, овладевал предметом. Я влагал в труд всю свою душу. Но когда путаница разъяснялась, все приходило в порядок, из хаоса получалась форма, колея, рутина, когда дело, в свою очередь, стремилось овладеть мною, я сторонился от него, как и от факультета. Что хотите, я был по-своему прав. У меня были планы, стремления, хотя и не вполне еще определившиеся, но искренние, сильные, и они шли вразрез с этой практикой…
III
Я гостил на хуторе, в семействе товарища, если только словом «гостить» можно охарактеризовать пребывание в пустом доме, из которого выехали хозяева, оставив его в полное мое распоряжение. Меня просили только не сжечь его, да по возможности оставить в целости оконные стекла, которые вставлять в деревне очень неудобно, — в остальном я был полный хозяин. У меня был компаньон и товарищ, старый слуга хозяев — Якуб, с которым мы были большие приятели. Старинная винтовка Якуба да небольшая сумма денег, полученная мною за два месяца кропотливой бухгалтерской работы, служили единственным источником удовлетворения наших незатейливых потребностей, и с этими средствами мы с Якубом жили в оставленном хуторе полными дикарями. Днем я бродил по полям, рисуя, собирая коллекции; Якуб, как Агасфер, неутомимо шатался по лесам и болотам, и гулкое эхо разносило по окрестностям отголоски метких выстрелов старой винтовки. Вечером мы сходились к нашему домишку; кто приходил ранее, тот раскладывал невдалеке, под деревьями, над речкой, костер, на котором мы готовили незатейливый ужин. Спали мы тут же, у костра, на открытом воздухе…
Личность моего компаньона была довольно замечательна. Мое знакомство с ним началось давно: еще мальчишкой я приезжал по временам из гимназии в хутор к товарищу на целые недели, и в это время мы познакомились с Якубом. Я часто сопровождал его в бесконечных экскурсиях, и он, обыкновенно нелюдимый, не имел ничего против моей навязчивости. Напротив, часто он разыскивал меня где-нибудь под деревом, в саду, или на сеновале, приносил с собою мои ботфорты и шапку и лаконически приговаривал:
— Пойдешь, что ли?
И я с удовольствием соглашался. Он указывал мне хорошие охотничьи стоянки, порой водил в места, которые ему казались почему-либо интересными, говорил вообще мало, но, по-видимому, слушал очень охотно все, что я болтал ему в дороге. По временам он смеялся коротким утробным смехом, причем концы его опущенных вниз седых усов как-то очень характерно сближались, — но никогда он не мотивировал этих припадков веселости, и, признаться, они часто приводили меня в недоумение. Я не мог понять, почему он смеется в данное время, чем вызывался этот смех. Казалось, его настроение управлялось какими-то внутренними законами и нисколько не зависело от того, что другие считали смешным, веселым или грустным.
Кажется, я был единственным, сколько запомню, человеком, общества которого Якуб как бы искал. К остальным он относился индифферентно. Правда, его, собственно, нельзя было назвать угрюмым мизантропом; если вглядеться в его лицо, оно никогда не было мрачно или желчно. В людской, куда он являлся по временам, точно на бивак, над ним иногда посмеивались, шутили; нередко, при более или менее удачной шутке, его усы сдвигались, и из-под их густой щетины просвечивало нечто среднее между гримасой и улыбкой, в общем довольно добродушное; но он никогда не огрызался, не отвечал, даже просто не вступал в разговоры, продолжая, как ни в чем не бывало, чистить ружье, зашивать принадлежности костюма, вообще справлять свои нужды.