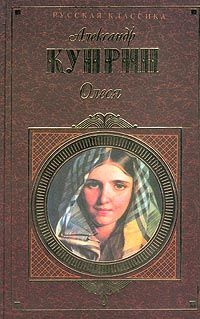Сашка играл «Метелицу». Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, оборотясь назад, на зрителей, крикнул:
– Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха… Гимн!
– Гимн! Гимн! – загудели мерзавцы в папахах.
– Гимн! – крикнул вдали одинокий, неуверенный голос.
Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно:
– Никаких гимнов.
– Что? – заревел Гундосый. – Ты не слушаться! Ах ты жид вонючий!
Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил:
– А ты?
– Что а я?
– Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?
– Я православный.
– Православный? А за сколько?
Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам.
– Братцы! – говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие, заученные слова, – Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?
Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда бы не поверил, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно.
– Ты! – крикнул Сашка. – Ты, сукин сын! Покажи мне твое лицо, убийца… Смотри на меня!.. Ну!..
Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и – трах! – высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.
– Братцы-ы, выруча-ай! – заорал Гундосый.
Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу.
Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому:
– В Бульварный участок. По политическому. Вот мой значок.
Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение Бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков.
Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач (между прочим, Сашкин ученик), которого разыскал аккомпаниатор.
И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно:
– Ребята, Сашка!
Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул:
– Братцы, рука-то!..
Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.
– Что это у тебя, товарищ? – спросил, наконец, волосатый боцман из «Русского общества».
– Э, глупости… там какое-то сухожилие или что, – ответил Сашка беспечно.
– Та-а-ак…
Опять все помолчали.
– Значит, и «Чабану» теперь конец? – спросил боцман участливо.
– «Чабану»? – переспросил Сашка, и глаза его заиграли. – Эй ты! – приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. – «Чабана»! Ейн, цвей, дрей!..
Пианист заиграл веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот, и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого «Чабана».
– Хо-хо-хо! – раскатились радостным смехом зрители.
– Черт! – воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрюченного Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:
– Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.
«Правь, Британия» (англ.).