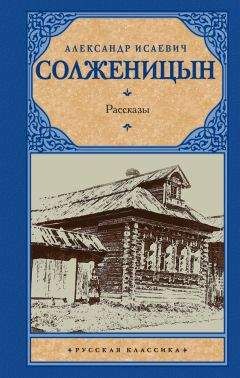Дума арестантская – и та несвободная, всё к тому ж возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл своё бельё тёплое? Наверно, подмазал в каптёрке личных вещей, откуда ж?
Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное всё съел, чувствовал себя Шухов сегодня несытым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать.
Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже зэки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже зэки всё, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и де́ревца во всей степи не было ни одного.
Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нём Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме – там иначе был порядок, пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне.
Из дому Шухов ушёл двадцать третьего июня сорок первого года. В воскресенье народ из Поломни пришёл от обедни и говорит: война. В Поломне узнала почта, а в Темгенёве ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то, пишут, в каждой избе радио галдит, проводное.
Писать теперь – что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло – тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдигсом, латышом, больше об чём говорить, чем с домашними.
Да и они два раза в год напишут – жизни их не поймёшь. Председатель колхоза де новый – так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили – так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, ещё кто нормы трудодней не выполняет – огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали. Ещё, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить и кто не выполнит – в тюрьму сажать, но как-то тот закон не вступил.
Чему Шухову никак не внять, это, пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись – колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырёх лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких ещё с тридцатого года загнали, а как они свалятся – и колхоз сдохнет.
Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали – этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?
Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый – это ковры красить. Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков красиле́й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку даёт, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковёр на любой простыне старой, какую дают, какую не жалко, – а рисовать тот ковёр будто бы час один, не боле. И очень жена надежду таит, что вернётся Иван и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красилём станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьётся, детей в техникум отдадут, и заместо старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять.
Хоть сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето, а всё ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать – как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трёх сортов: один ковёр «Тройка» – в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр – «Олень», а третий – под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковёр не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.
Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры…
По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что́ через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает – оно будто и легче. А как на волю вступишь?..
Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы.
В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, лёгкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно… Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился.
Лёгкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова ещё добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдёт?
Да ещё пустят ли когда на ту волю? Не навесят ли ещё десятки ни за так?..
Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны объекта. Ещё раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займёт, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошёл на вахту. А из вахты, из трубы, дым не переставая клубится: вольный вахтёр всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент.
Напересек через ворота проволочные, и черезо всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, – солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алёшка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щёки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает – чему рад? По воскресеньям всё с другими баптистами шепчется. С них лагеря как с гуся вода. По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру – неуж думают тем от веры отвадить?
Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов её ссунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый.
Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает – как работать?
Оглянулся – и на бригадира лицом попал, тот в задней пятёрке шёл. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смехуёчками он бригаду свою не жалует, а кормит – ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын Гулага, лагерный обычай знает напрожог.
Бригадир в лагере – это всё: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов ещё по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, – тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнёт бровью или пальцем покажет – беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьича не обманывай. И будешь жив.
И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, – а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, от неё пять следующих дней питания зависят.
Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра – не поморщится, кожа на лице – как кора дубовая.
Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят – опять в зону не пускают. Бдительность травят.
Ну! Вышли начкар с контролёром из вахты, по обои стороны ворот стали, и ворота развели.
– Р-раз-берись по пятёркам! Пер-рвая! Втор-ра-я!
Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать.