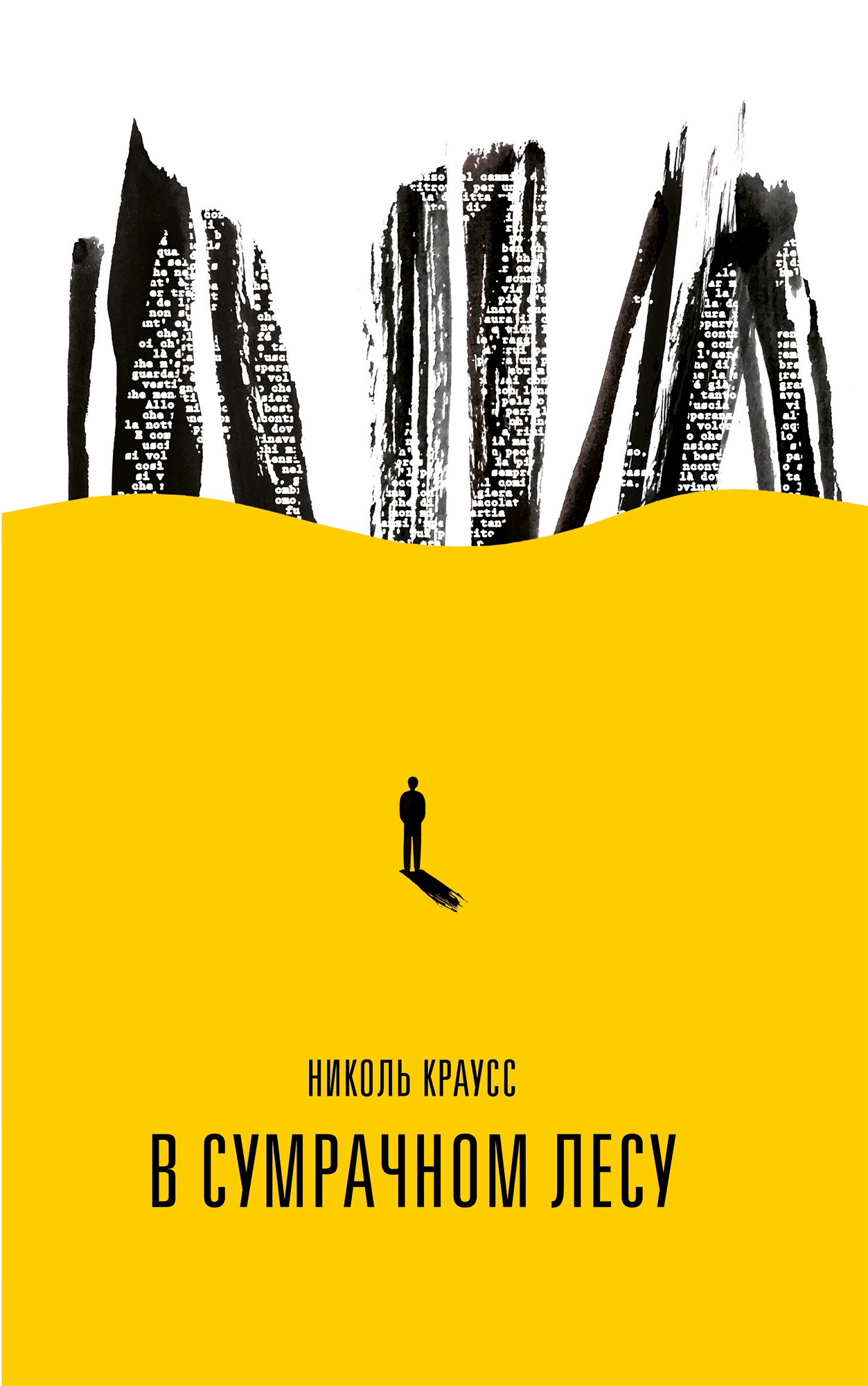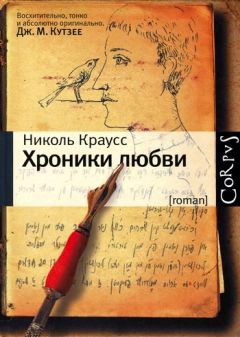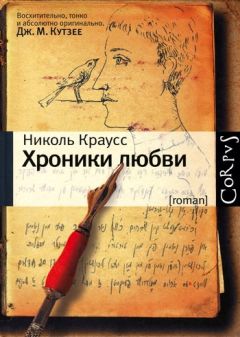тебя есть от рождения.
А вот я зашла совсем недалеко. Думаю, у меня не хватало отваги, и после того лета я ни разу больше не была такой дерзкой и такой безрассудной. Я встречалась с разными парнями по очереди, все они были милые и чуть-чуть меня боялись, а потом я вышла замуж и родила двух дочерей. У старшей светло-русые волосы, как у моего мужа, и если она осенью пойдет по полю, ее можно и потерять из виду. А вот младшая выделяется, где бы она ни была. Она растет и развивается по контрасту со всем, что ее окружает. Неправильно и даже опасно считать, что человек может выбирать, как ему выглядеть. И все-таки я готова поклясться, что моя дочь как-то да повлияла на то, что у нее черные волосы и зеленые глаза, которые всегда притягивают внимание, даже если она поет в хоре, окруженная другими детьми. Ей всего двенадцать, и она пока совсем невысокого роста, но мужчины уже глядят на нее, когда она идет по улице или едет на метро. И она не горбится, не натягивает капюшон, не прячется за наушниками, как ее друзья. Она держится прямо и спокойно, как королева, и тем самым только больше привлекает их интерес. В ней есть гордость, которую не спрятать, но если б дело было только в этом, я не стала бы за нее бояться. Меня пугает то, что ее интересует собственная сила, ее пределы и возможности. Хотя, если честно, кажется, когда я за нее не боюсь, я ей завидую. Я как-то увидела, как именно это происходит — как она посмотрела на мужчину в деловом костюме, который стоял на другой стороне вагона метро и ел ее глазами. Она уставилась на него с вызовом. Если б с ней ехала подруга, возможно, она бы медленно повернулась к ней, не отрывая взгляда от мужчины, и сказала бы что-нибудь, что вызовет смех. И вот тогда я вспомнила Сорайю, и с тех пор эти воспоминания меня не отпускают. Воспоминания о Сорайе и о том, как в твоей жизни случается человек, и только через полжизни встреча с ним созревает, раскрывается и становится частью тебя. Сорайя, пушок на ее верхней губе, стрелки на веках и ее смех, низкий смех откуда-то из живота, когда она рассказывала нам о том, как возбудился голландский банкир. Он мог бы сломать ее пополам одной рукой, но либо она была уже сломана, либо не ломалась вообще.
Двадцать три этажа над Сто десятой улицей, рубероид под ногами, новорожденный внук на руках — как он здесь оказался? Ну, это непросто объяснить, как сказал бы его отец. Простота ему в наследство не досталась.
Собственно, началось все вот как. Бродман две недели был мертв, а потом, к сожалению, вернулся в этот мир, где последние пятьдесят лет пытался писать никому не нужные книжки. Ему вырезали опухоль в кишечнике, и после операции начались осложнения. Пятнадцать дней его тело лежало на каталке — с подключенным аппаратом искусственного дыхания и отдельным пакетом для каждой вводимой или выводимой жидкости — и вело настоящую средневековую войну против двусторонней пневмонии. Две недели жизнь Бродмана висела на волоске, он был одновременно и мертв, и жив. На нем была язва, как на доме из книги Левит, и его всего оскоблили и разобрали по камешку. Либо поможет, либо не поможет. Либо язва уйдет, либо она уже распространилась внутри него.
Ожидая приговора, он видел безумные сны. Настоящие галлюцинации! Бродман лежал, накачанный лекарствами, охваченный жаром, и ему снилось, будто он анти-Герцль [1] и читает лекции по всей стране, на которые собираются такие огромные толпы, что им приходится, чтобы что-то услышать, смотреть ретрансляции синхронных трансляций. Раввин с Западного берега объявил против Бродмана фетву, а еврейский магнат, владелец казино, обещал за его голову награду в десять миллионов долларов. От угроз убийства за предательство Бродмана спрятали в безопасном месте где-то в сердце Германии. За окном он видел холмы… Баварии? Везербергланда? Деталей ему не сообщили ради его же блага, чтобы он не сломался и не позвонил своей жене Мире, или своему юристу, или рабби Ханану Бен-Цви из Гуш-Эциона. Хотя даже если позвонить рабби, что ему сказать? «Я сдаюсь, приезжай и убей меня, третья земляная дорога слева, мимо фермы, где Брунгильда поет «Эдельвейс», пока доит коров, и кстати, не забудь автомат?» Хотя, может, рабби собирался перерезать Бродману горло разделочным ножом.
Сидя в своем немецком убежище, он советовался с Бубером, рабби Акивой и Гершомом Шолемом, который растянулся на медвежьей шкуре, почесывая медвежью голову за ухом. Он сидел с Маймонидом на заднем сиденье машины с пуленепробиваемыми стеклами и вел с ним бесконечный разговор. Он видел Моше Ибн-Эзру и слышал Сало Барона — до него он докрикивался, размахивая руками, чтобы разогнать дым. Бродман его не видел, но знал, что это он тяжело дышит внутри кипящей туманности — Сало Уитмайер Барон, который знал двадцать языков и давал показания на суде над Эйхманом, первый человек, получивший под свое начало кафедру еврейской истории в западном университете. «Сало, во что ты нас впутал?»
За две эти лихорадочные недели с ним происходило невероятное, ему открывалось невыразимое. Отстегнутый от течения времени, Бродман застрял в переходном и трансцендентном состоянии и увидел истинные очертания свой жизни, увидел, как она всегда закручивалась в направлении долга. И не только его жизнь, но жизнь его народа — три тысячи лет опасного копания в воспоминаниях, почитания страданий и ожидания.
На пятнадцатый день температура у Бродмана спала, он проснулся и обнаружил, что вылечился. Его тело стало пригодно для жизни, и Бродману предстояло еще немного в нем пожить. Оставалось только провести обряд очищения, следуя указаниям Левита: взять двух птиц, одну принести в жертву, а другую оставить жить. Одну убить, а другую омочить в крови убитой, семь раз окропить ею дом и выпустить на свободу. Такое облегчение! Он плакал каждый раз, когда читал эти строки. «…и пустит живую птицу вне города в поле и очистит дом, и будет чист».
Пока он погружался в галлюцинации, на свет появился его единственный внук. Измученный болезнью Бродман почти верил, что роды прошли удачно благодаря усилиям его разума. Его младшая дочь Рути мужчин не любила. Когда она в сорок один год объявила, что ждет ребенка, Бродман принял это как чудо непорочного зачатия. Но счастье было