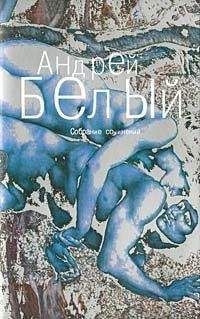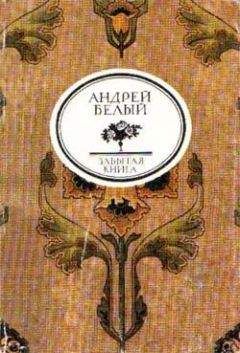И пока он так думал, в противоположном углу продолжали шептаться, искоса поглядывая на Петра: но дым, чай, ученые мужики да урядник заглушали тот шепот…
* * *
— И видел я, братцы мои, сон: будто у меня три халавы, и каждая халава на свой образец: адна псиная, а друхая щучья; и только адна собственная; и те холовы про самих аспаривают себя; и от того у меня трешшали мозги — оченно…
— Ну, и ты тилилюй же!
— А што?
— Быдлом тебя пабычить…
* * *
— Черт бы его подрал: а решенье нашшот таво приять должно; ты сам, Сидор Семеныч, рассуди: атпустить на чатыри на стараны его никак ниваз-можна; етта ты сам понимать; и опять-таки, зачем мне ево держать — лишний рот — коли проку ат ниво никакова; даром только аткармливать. Когда Петр проходил мимо них, направляясь к выходу с твердым решеньем, в котором он себе даже не признавался, ласково его так окликнул столяр.
— Подь сюда, подь сюда…
— Ну? — повернулся на них Петр да так, что вздрогнули оба: с вызовом, с гордостью, с высоко закинутым лбом; в эту минуту в нем обнаружился барин, хотя клочкастая (в этом месяце выросшая) борода, и шапка нечесаных волос, и дырявые на рубахе локти барства в нем выказывали мало.
— Слухай-ка, барин, — сладко к нему подъехал столяр, — дело есь да табя: Сидор, вот, Семеныч, паутру едет абратна; ты бы с ним съездил: там тебе Еропегиха, купчиха, передаст мне заказ па мебельнай части…
— Что ж, пожалуй!
— Так уж вы постарайтесь пораньше: едем-то мы — чуть свет, — обратился к нему Сухорукое, удостоивая этим в ы неизвестно по какой причине.
Молньей что-то в голове Петра пронеслось, и он даже радостно чуть было не улыбнулся, но ради каких-то целей счел нужным поломаться.
— Эх! — деланно почесался Петр…
— Нет, уж ты, етта, друх, для меня сделай, — и столяр положил руку свою ему на плечо; странная вещь: почтенное это лицо с длинной, протянутой вниз бородою (смесь свинописи с иконописью), — внушало Петру все еще уважение и страх; а то, что столяр был пьян (первый раз видел Петр столяра пьяным) и взволнован — все это внушило сквозь ненависть его к столяру и еще какую-то нежность. «Как это я прежде не замечал, — подумал он, — что свинопись в этом лице перемешана с иконописью?» Это слово он только что придумал и, как ему казалось, придумал удачно.
— Хорошо: поеду.
— За ваше здоровье, — протянул ему медник водку.
Выпили.
И Петр вышел: темный на него бросился вечер с все еще красной зарей; и обвил его этот вечер темнотой да зарей; Петр пошел на зарю…
* * *
Шум, гром, гвалт, тяжелый дух: подавались на стол тарани, селедки, в больших чайниках водка, всякая иная дохлятина и в красненьких коробках папиросы «Лев» (пять копеек десяток); не всякому был тот «Лев» по карману, а курили — для ради шикозности; вокруг пьяненького урядника кучкой теснились пьяненькие мужики:
— А ты их лови, да в воду.
— Да што, да я…
— Да мы…
— Истинная, позволю себе заметить, правда: потому такое их, значить, дело.
— Потому, дубатол ты эдакий, они и мутьянят народ…
— Истинная, позволю себе заметить, ваше благородие, правда: потому, значит…
— А потому ты лови их, да в воду…
И урядник, проведя ногтем по красной коробочке, вытащил трясущимися перстами папиросу «Лев» и с наслаждением закурил.
* * *
— Ну, и што шь?…
— Да што: а по-моему, сбежит.
— А ежели бы он убёг?…
— Тагда, Мироныч, пиши прапало… И столяр задумался.
— Никак ефтава случая нельзя допустить…
— Помяни ты мое сухоруковское слово: сбежит.
— А ты бы всыпал?
— А я бы и всыпал… Молчание…
— Только как етта ты мне предлагаешь, так я должен тебе сказать, што за такое дело должен ты будешь мне…
— Вво — как: пакланюсь я табе…
— И тыщами еропегинскими поклонишься?
— Пакланюсь табе в ноги еропегинской тыш-шой.
— То-то: теми тыщами и поклонись…
— И поклонюсь… Молчание…
— Только вот…
— А я тебе говорю; греха никакого тут нет: ничяво нет — как есть пустота, плевое дело…
— Ладно, вези его в город…
— И повезу…
— Здесь-та с им не спадручна; здесь с им нельзя паступить никак: баба тут у миня, Матрена…
Молчание…
— А кагда с им поступлено будет?…
— Да уж будет поступлено: не сумлевайся… В наискорейший срок…
— О, Господи, Господи!
— Мы, Сухоруковы, за что, брат, ни возьмемся; спроси ты, каво хочешь, какие мы такие: порода известная…
— А он от тебя не сбежит?
— Так вот тебе и убежит!..
— Так ефта я…
— Убежит: ат миня еще нихто не бегал!.. Молчание…
— А только я табе говорю, а ты слушай внимательно: што куренок, што человек — одна плоть; и греха никакого тут нет; одинаково завелись и люди, и звери, и птица — на адин фасон; и как я тебе это по дружбе сказал, то ты меня должен за это благодарить… Понял?…
* * *
Завизжала гармоника; к урядникову столу прилетела желтая муза и села; пьяная баба пошла в пляс; она выбивала пыль из-под юбок с жеманством, с достоинством даже поджимая губы и держа руки в боки:
Д'ах, пошла я
Пад винец —
Д'мужинек мой
Был стервец…
Пьяный урядник гоготал, а курносые парни дружно разорвали рты и гаркнули:
Я и едак,
Я и так:
Мижду прочим —
И никак…
Лихо топотала баба и голосила:
Ели редьку
Да капусту —
С галадухи
В брюхе пуста…
А парни подхватывали:
Д'я и едак,
Д'я и так:
Мижду прочим,
Все никак…
Новая была песня, модная: перед тем пели сицилистические песни в округе; а как попика Николая скрутили да в тюрьму сволокли, струхнула окрестность маленечко; прекратились митинги, побросали оружие, пошли доносы; пошли новые распевать песни:
Миня деверь
Учит, жучит:
Ат капусты
Брюха пучит…
Вот и весь та
Мой сказ…
А парни подхватили:
Новая была песня, модная…
Долго бы еще топотала оголтелая баба, долго бы еще гоготал урядник, раскуривая папиросы «Лев», всякие пелись бы песни — и веселые, и срамные, и жалкие, — кабы тут не произошло одно чрезвычайное происшествие: среди чада, гари, мглы и табачных окурков кто-то как гаркнет:
— Братцы, пожар!..
Все стихло: баба остановилась, парни застыли с раскрытыми ртами, а урядник — с зажженной спичкой в смраде, гари и мгле; на селе раздавались крики; взглянули на окна — окна красные.
— Никак пожар? — удивился медник.
— Пожар и есть…
Не успели опомниться, как уже грянула целебеевская колокольня; непривычно забила медная медь в вечера мглу: быстро сменялся удар за ударом; и когда народ повалил из чайной, в небе стояла черно-багровая мгла, а в ней трещало, шарахалось, прыгало светлое пламя, туда и сюда змеилось и сверкало многим множеством искр; будто мириады красных и золотых ос, спрятанных в улье, вылетели теперь в ночи мглу, чтобы жалить людей, покрывать их смертными красного жала укусами — и роились, свивались, светились золотые злые осы, вылетая из улья; и подпрыгивали в ночь головешки, как кровавые шершни; ясные раскуривались там змеи и быстро-быстро они выползали из-под углов, протягивали свои шеи, шипели, и тянулись к соседним избенкам, освещая теперь целебеевский луг; медленно, низко над лугом суровые черные дыма клубы перекатывались смрадом, опрокидываясь на луг и упадая на землю темно-красной завесой, из-под которой двуногие тени так быстро перебегали и взад и вперед; не были видны их лица, не были слышны их возгласы: одни черные контуры размахались там нелепо руками, визжали, бесились; казалось, что недобрая стая теней, слетевшая отовсюду, справляла свое пированье в красном блеске огней.
— Будто там и не люди, а бесы, — усмехнулся какой-то насмешник у медника за спиной, когда стали они поодаль от пламени среди трав и цветов; но лишь на нелепую ту шутку обернулся урядник, уряднику мгла залепила пьяные глаза; поди там, разыскивай в черноте…
— Нашли время для шуток! — заворчали кругом.
— Их бы поколотить!..
— Не свои, а чужие: из Кобыльей Лужи парни…
В темноте же дружно гаркнули пьяные голоса:
Вставай паадымайся, рабочий народ…
И удалялись в ночь.
Колокольня кидалась медными криками: и туда, и сюда — и туда, и сюда: дон-дон-дон-дон; перекатывались душные дымы, упадая на землю кровавой завесой, из-под которой двуногие тени с криками продолжали бегать взад и вперед; был шип, треск, крик и бессильный детский плач; громким голосом возопила старуха; оголтелые хозяева выкидывались из соседних изб, и летели в дым сапоги, сарафаны, подушки, перины, юбки; полетел большой, в ночь подброшенный, куль; но пылала не лавка, а соседний с лавкой амбар.