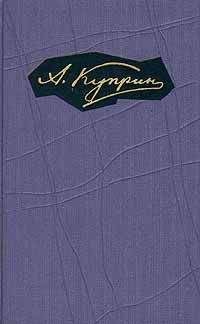Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую верею. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелою корою, протянулся и точно дрожит бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.
Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет… Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.
Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удается. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками — тем вернее будет бежать от тебя дрема. Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, — успокаиваю я себя. — Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет». Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку — лодку. Порой они оба: и бригантина, и малая шлюпочка — раз за разом ныряют в белые, распущенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.
Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство слуха.
Далеко, верстах в двадцати — тридцати, в лесном озерце низко и сипло мычит выпь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик-соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:
В добрый час, в добрый час,
Спите: бог не спит за вас…
Я даже чувствую в голове ее простой, наивный, точно молитвенный напев. Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.
Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему создателя. Углубившись в темные недра, ее тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот — ландышу, тот — сосне, а тот — папоротнику или дикой малине.
О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут девушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.
…Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда… Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышный звук раздается около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.
Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бессчетное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забитых от холодов соломой и мохом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверлильщиков, стругалыциков — и все они нужны для каких-то господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работящим, свирепым и умным народом…
Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?
Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью. Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испугавшимся. Мне показалось, что кто-то сначала слегка дохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность. Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь, в моем лесу, за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову кверху. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворошится высоко надо мною, в гуще сосны… Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это — глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухаришка, — говорю я про себя, — я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной…»
Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвороста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?
Познакомились мы друг с другом в прелестном княжестве Монако в 1912 году. Я в то лето без всякого труда, свободно и весело выиграл в казино Монте-Карло (в Карлушкиной Горке, как называет И. С. Шмелев) несколько десятков тысяч франков. Я бы, пожалуй, продолжал и дальше играть, но это не вышло. Последний, взятый мною куш был так велик, что я решил сделать в игре перерыв, чтобы отдохнуть и подкрепиться в буфете, так как утром забыл позавтракать, а теперь уже шел одиннадцатый час вечера. Путь мой шел через большой гранитный вестибюль. Там у колонны сидел скромно мой друг. Я высыпал ему на юбку весь выигрыш: сто- и тысячефранковые билеты, множество золотой мелочи и большое количество золотых стофранковиков, тяжелых, желтых и красивых, как только что выпеченные сдобные хлебцы. Она спокойно сказала:
— Тебе везет. Может быть, ты еще поиграешь? Вот тут-то я и взвился. Надо сказать, что в далекие от этого времени годы я прослужил около одиннадцати месяцев актером в бродячей драматической труппе, и пародии на бурные страсти, на возвышенные чувства мне даются очень легко.
— Ка-ак! — вскричал я полу задушенным блеющим голосом, закатывая глаза и устремляя перст в потолок. — Это ты! Человек, любимый и уважаемый мною больше всего на свете! Ты! Кого я чту, как высокий образ доброты, милости, ума и порядочности. Ты! Моя радость, гордость, утешение и подпора! И ты своими чистыми, непорочными устами посылаешь меня… Но куда-а-а? Посылаешь в эту ужасную гнусную клоаку, где ненасытимая жадность стирает с человеческих лиц образ и подобие божие! В этот кипящий дьяволами смрадный ад! Ибо нет на всем свете влечения более грязного, страсти более свирепой, порока более заразительного, чем азартная игра! О, ужас! Ужас!